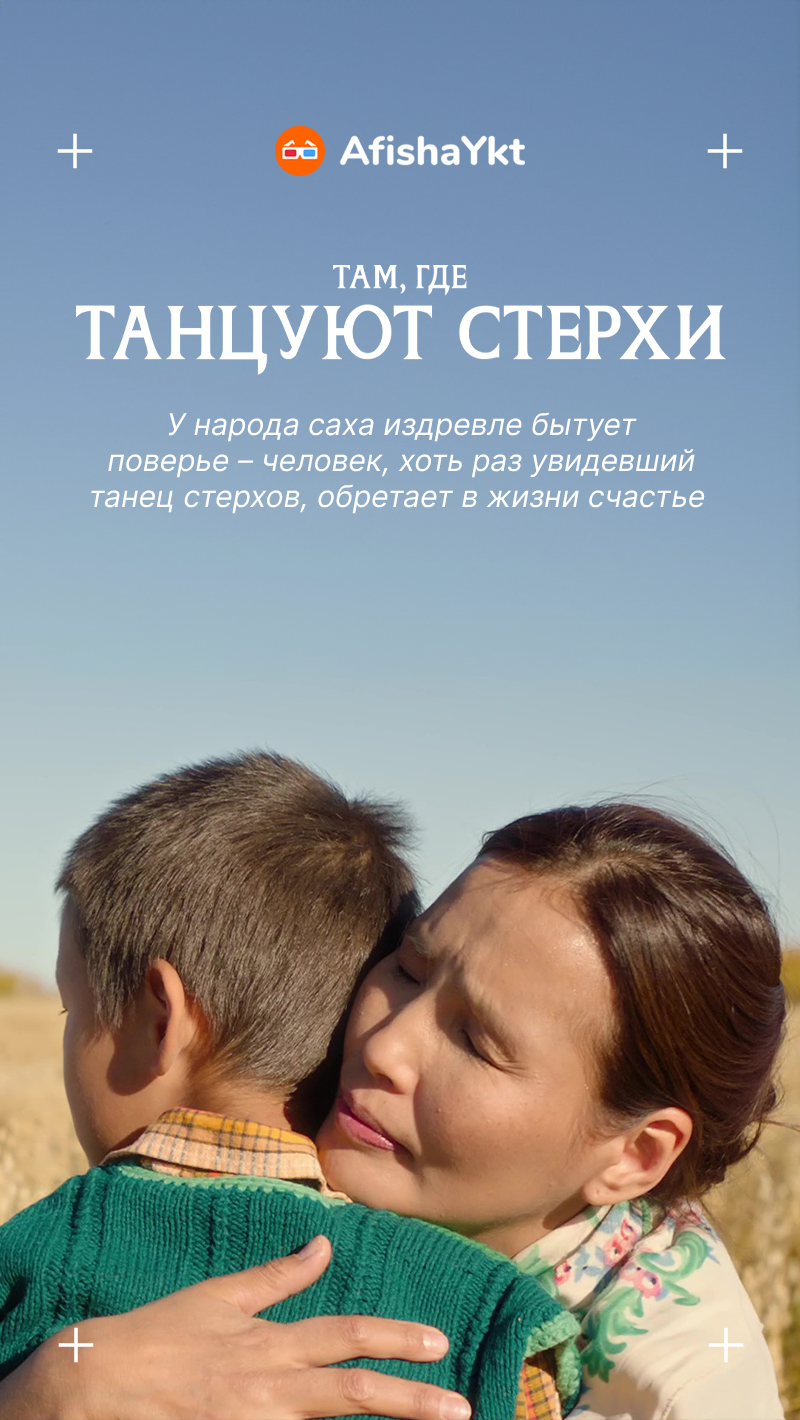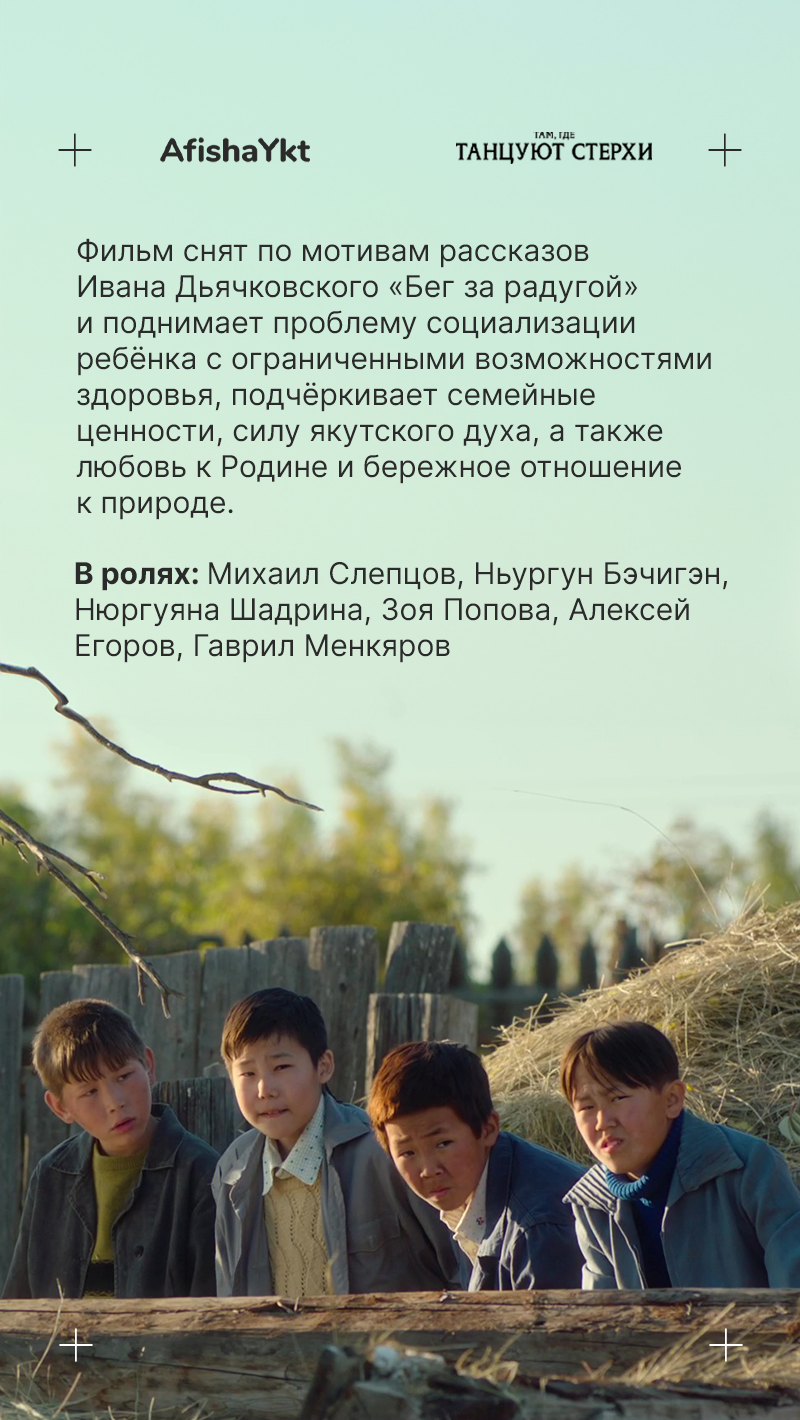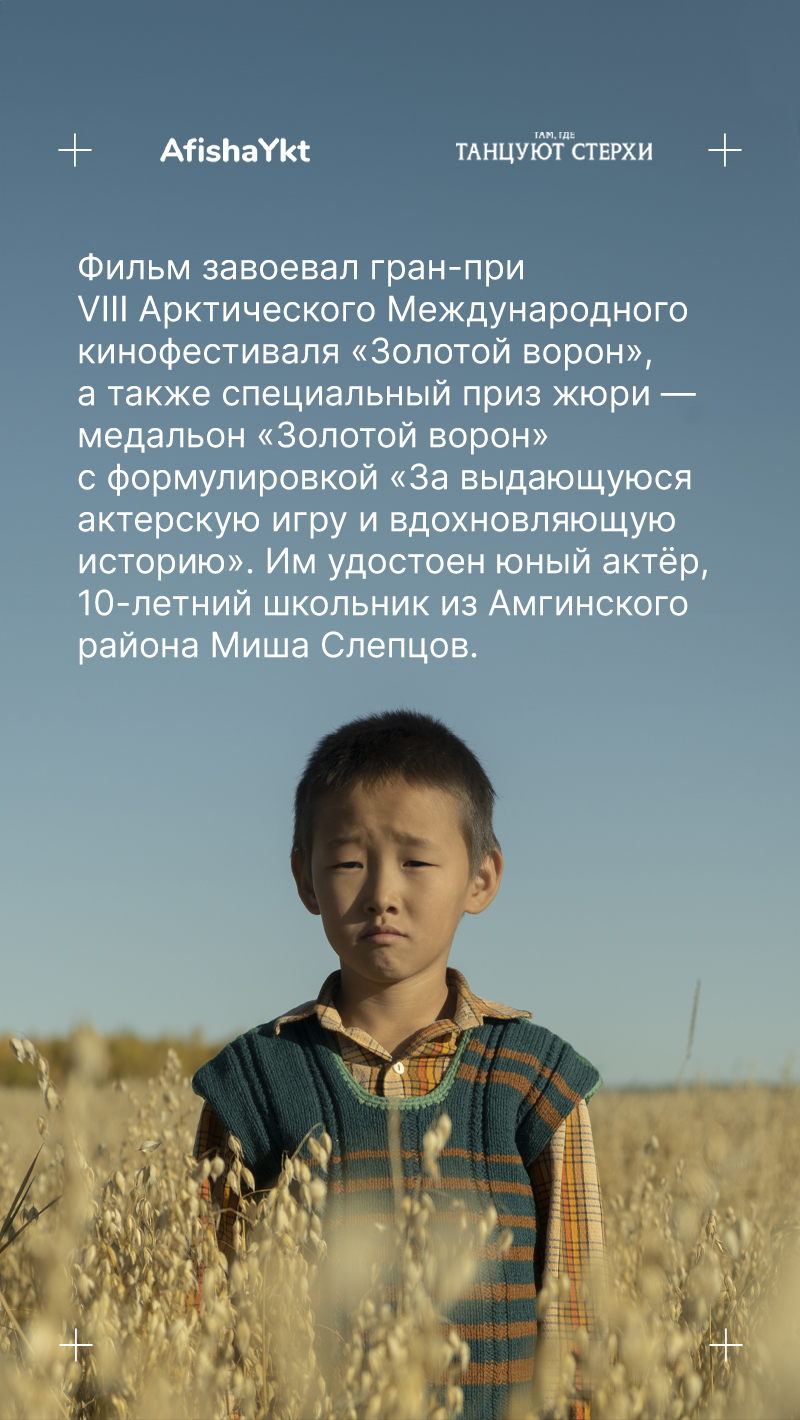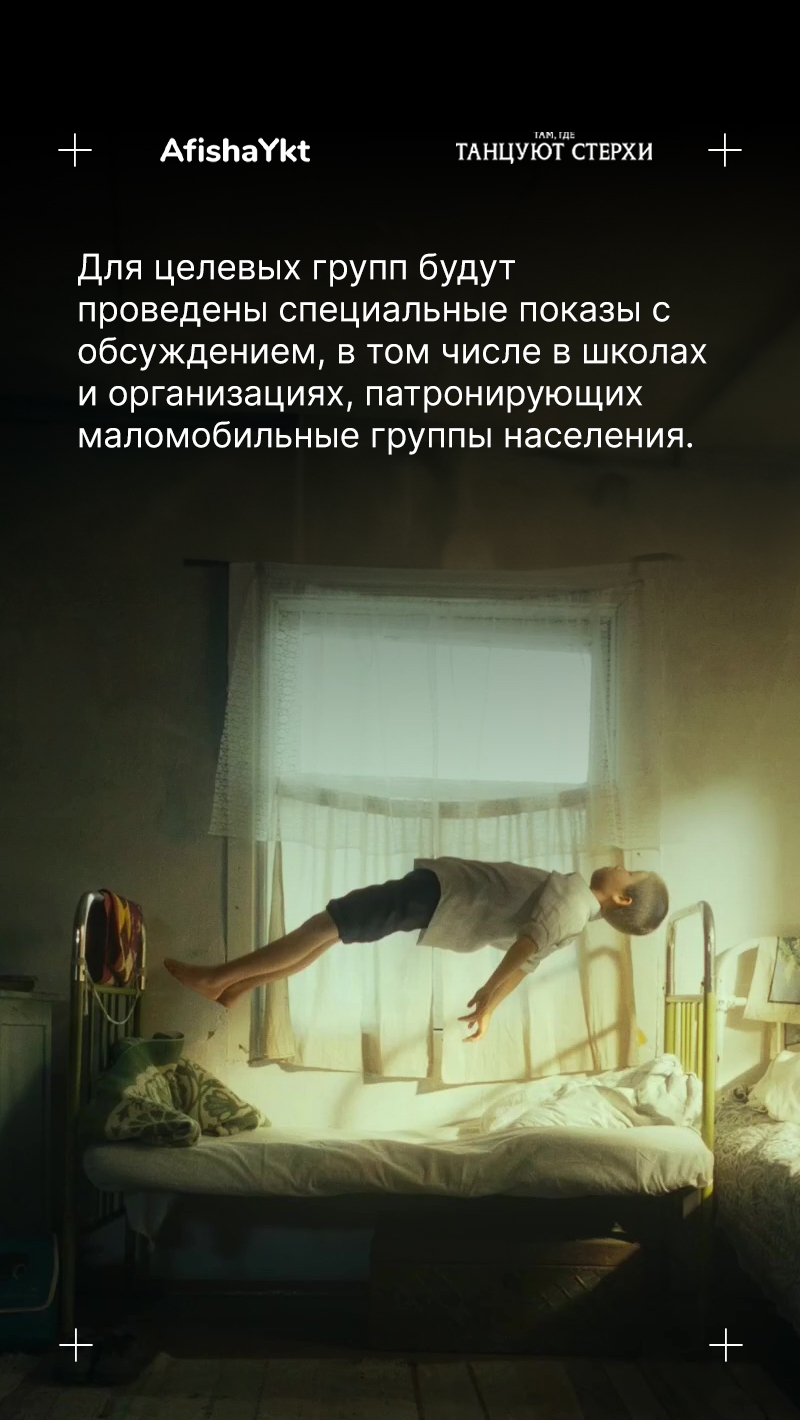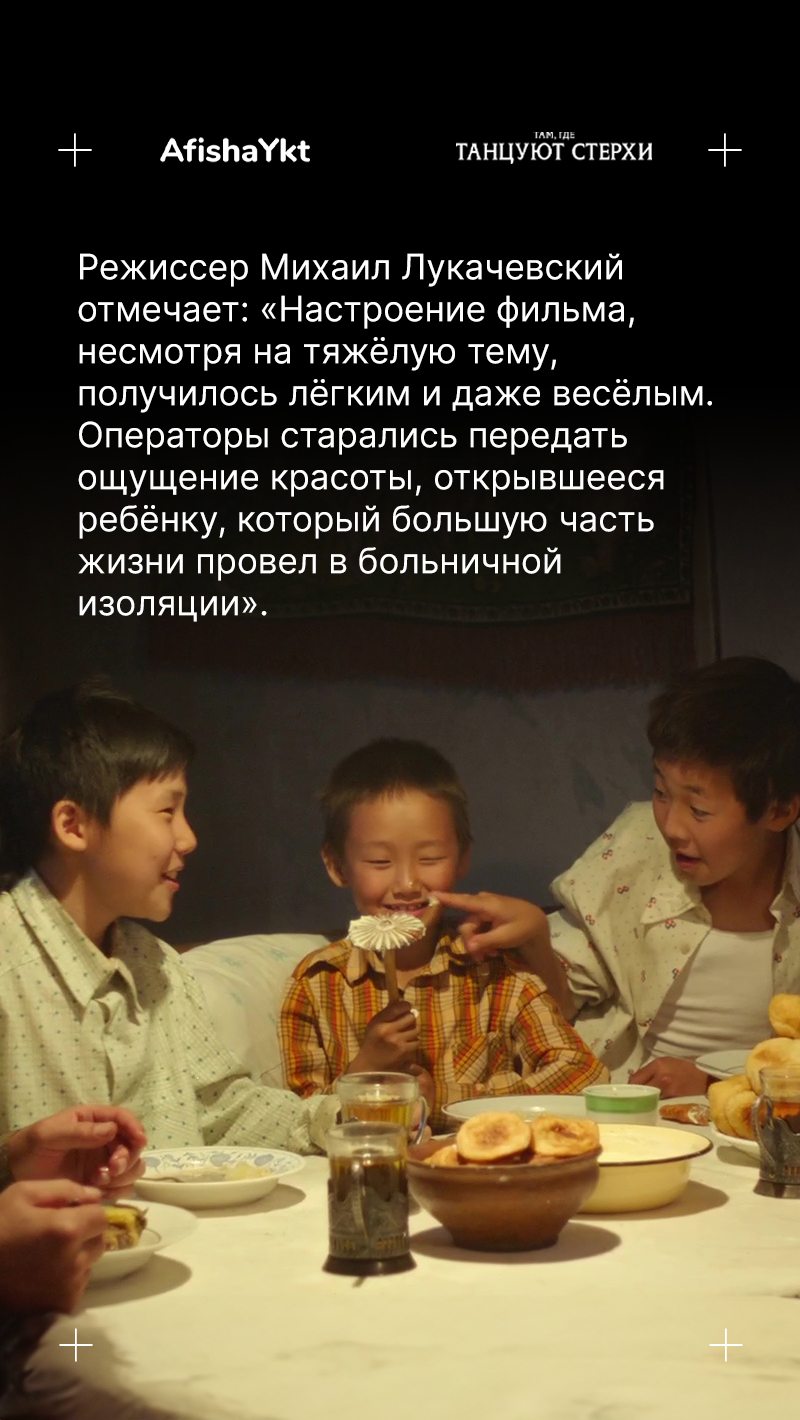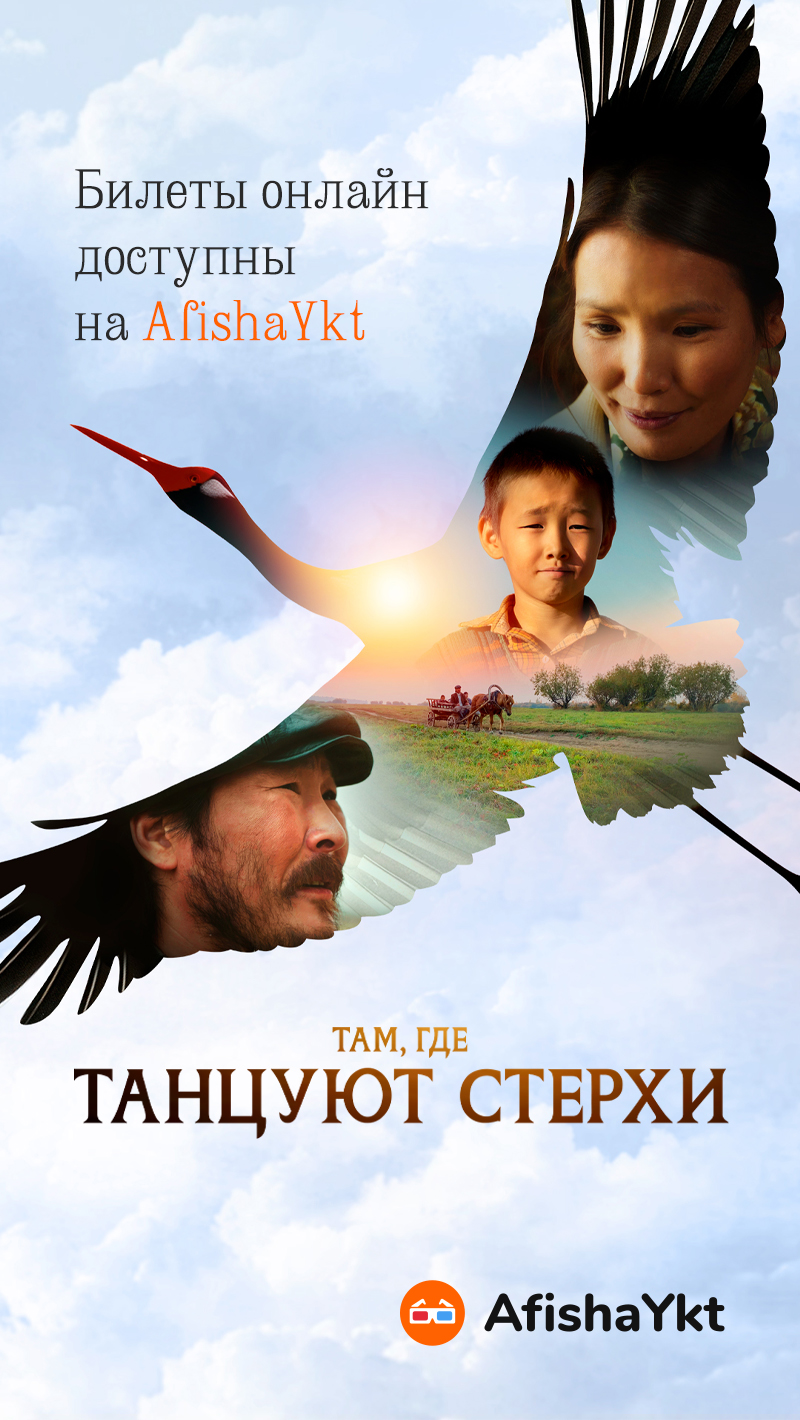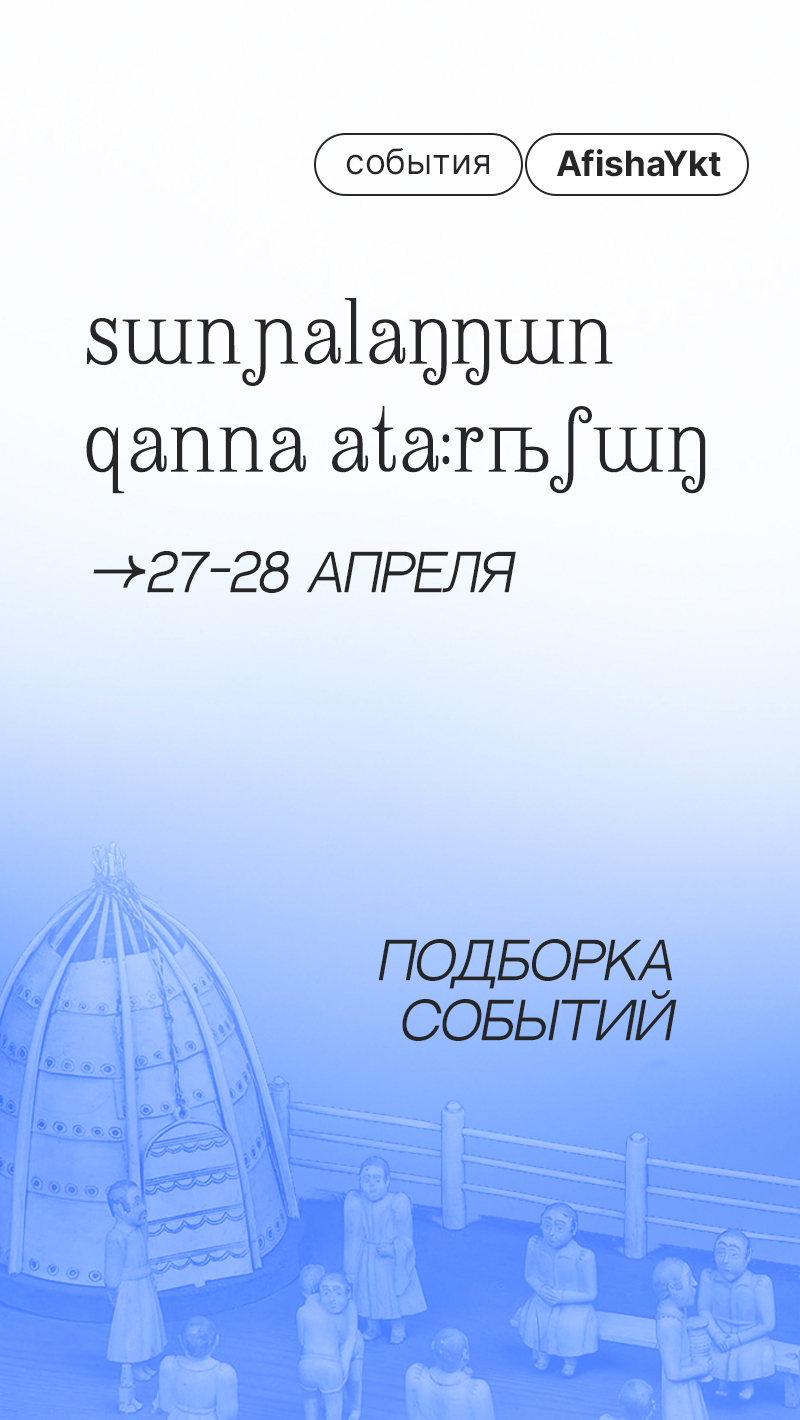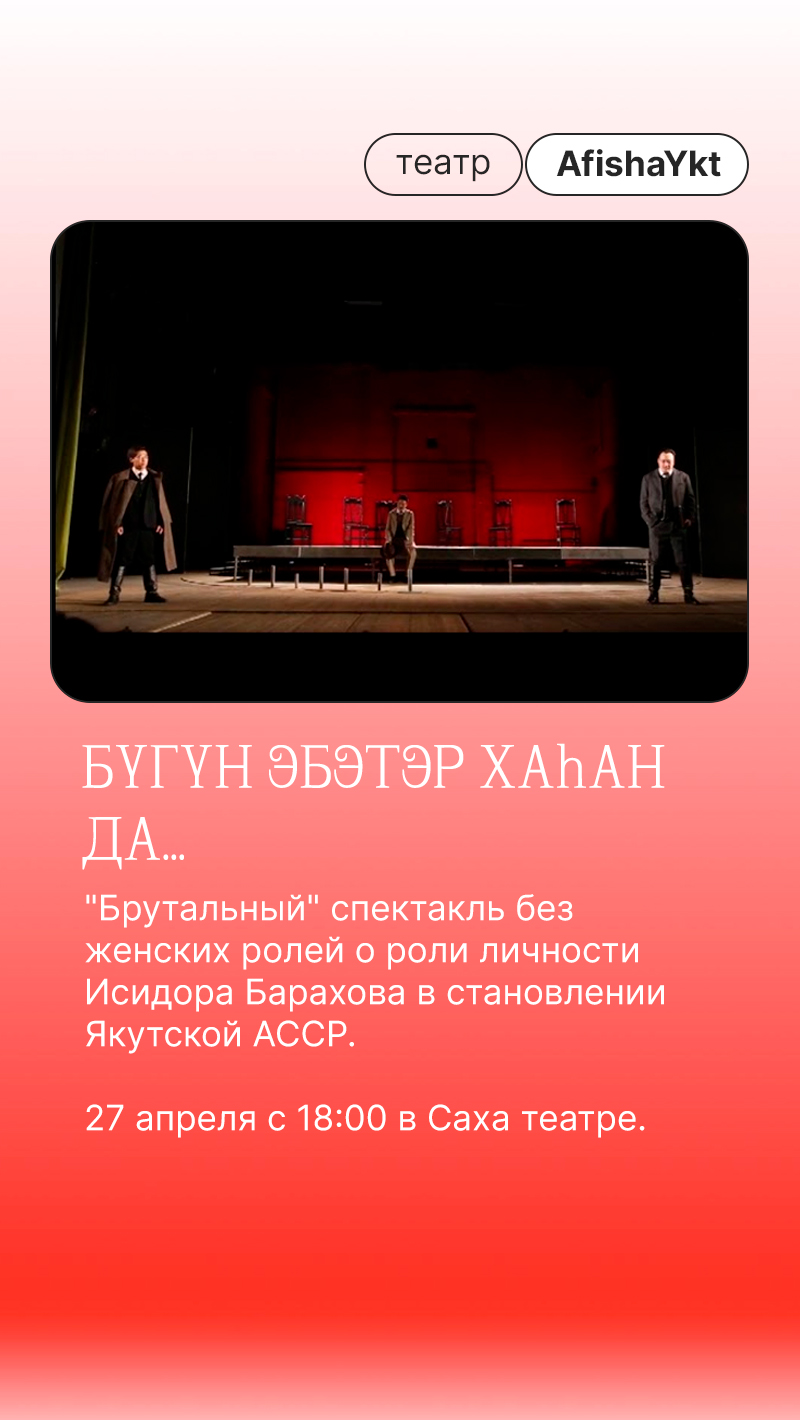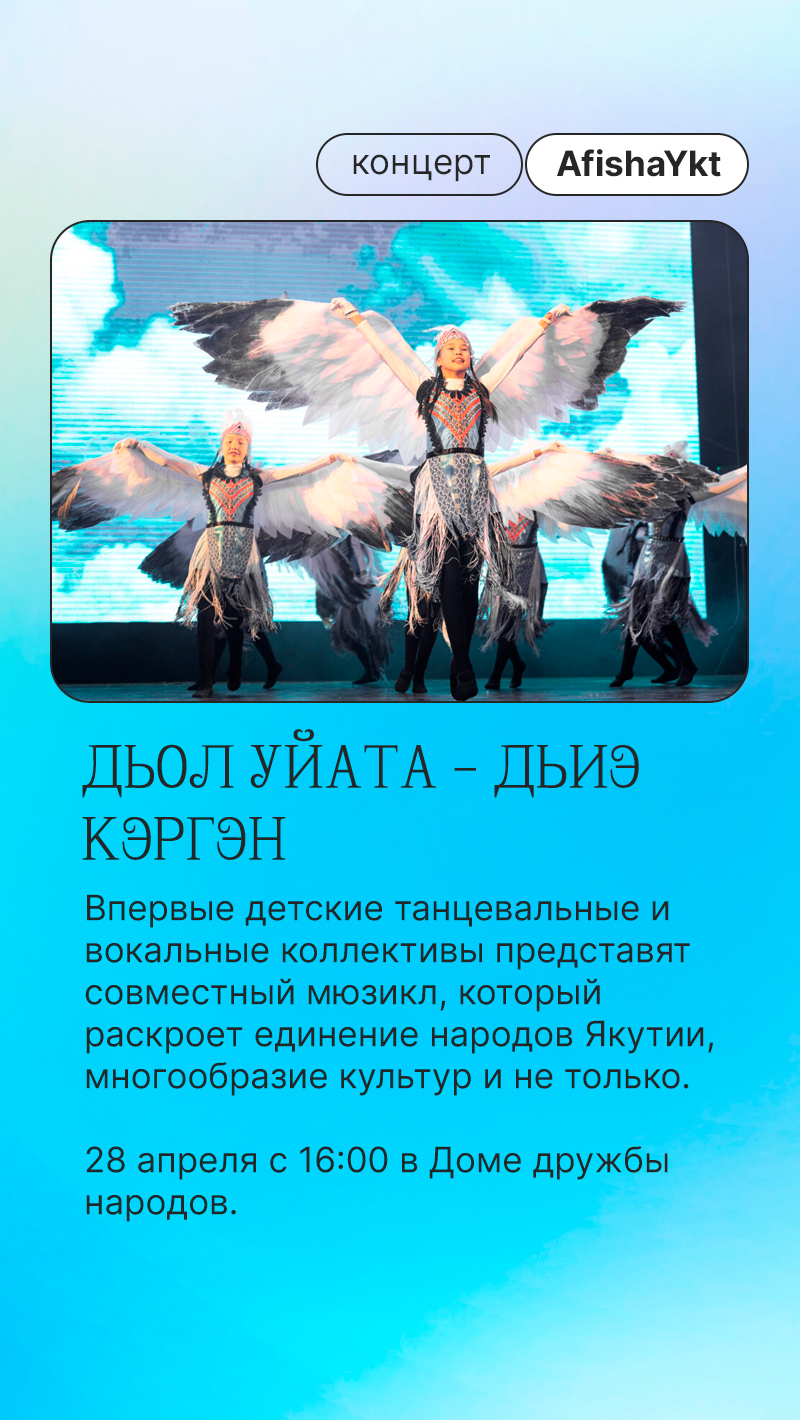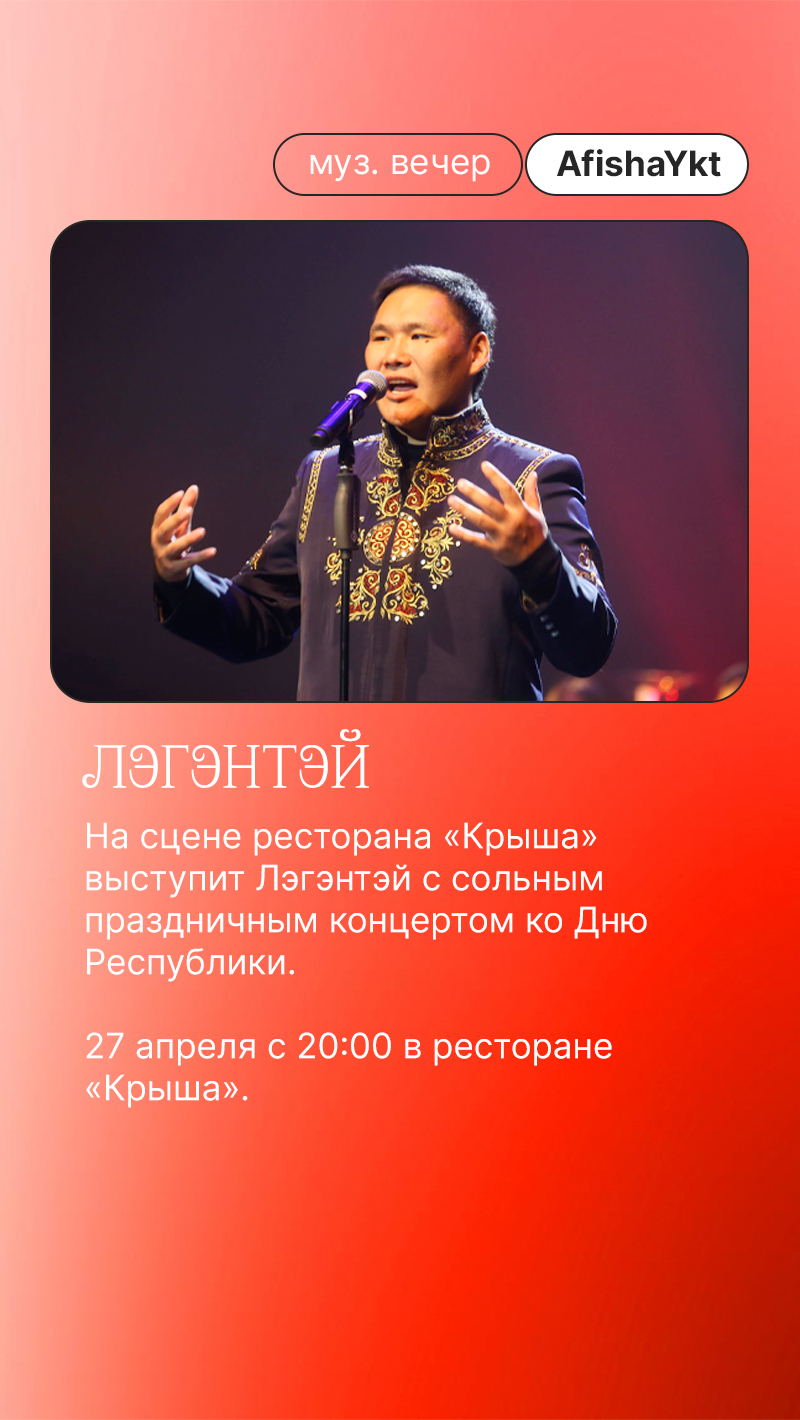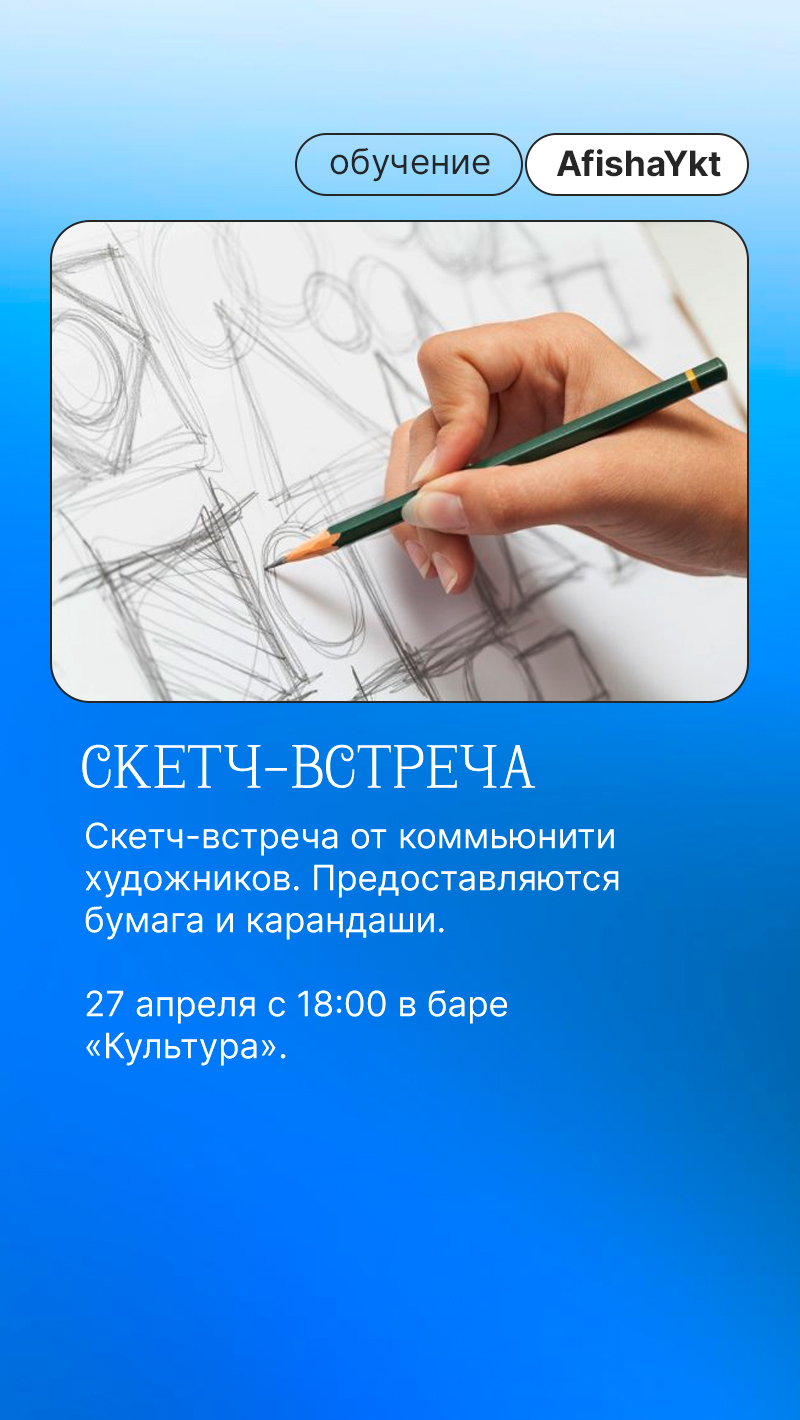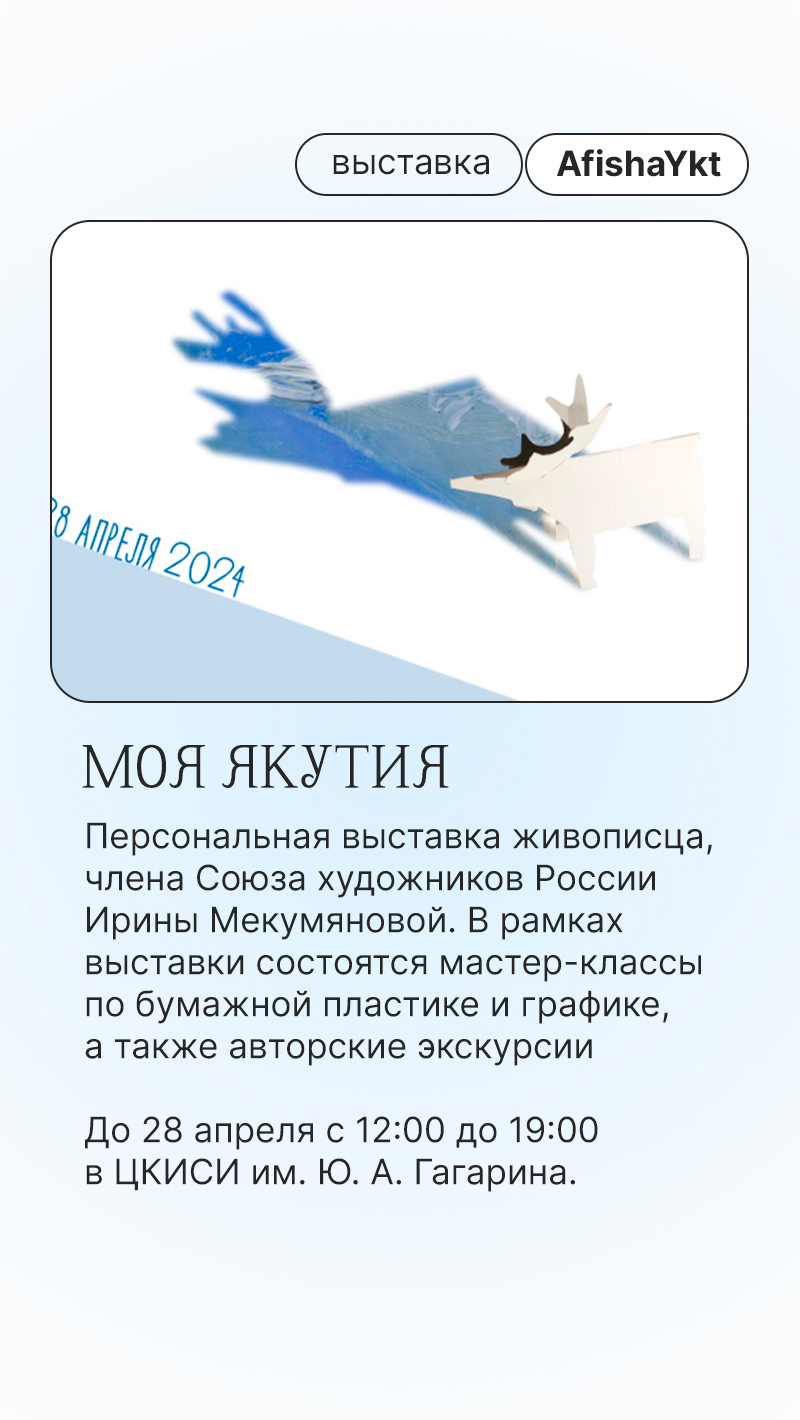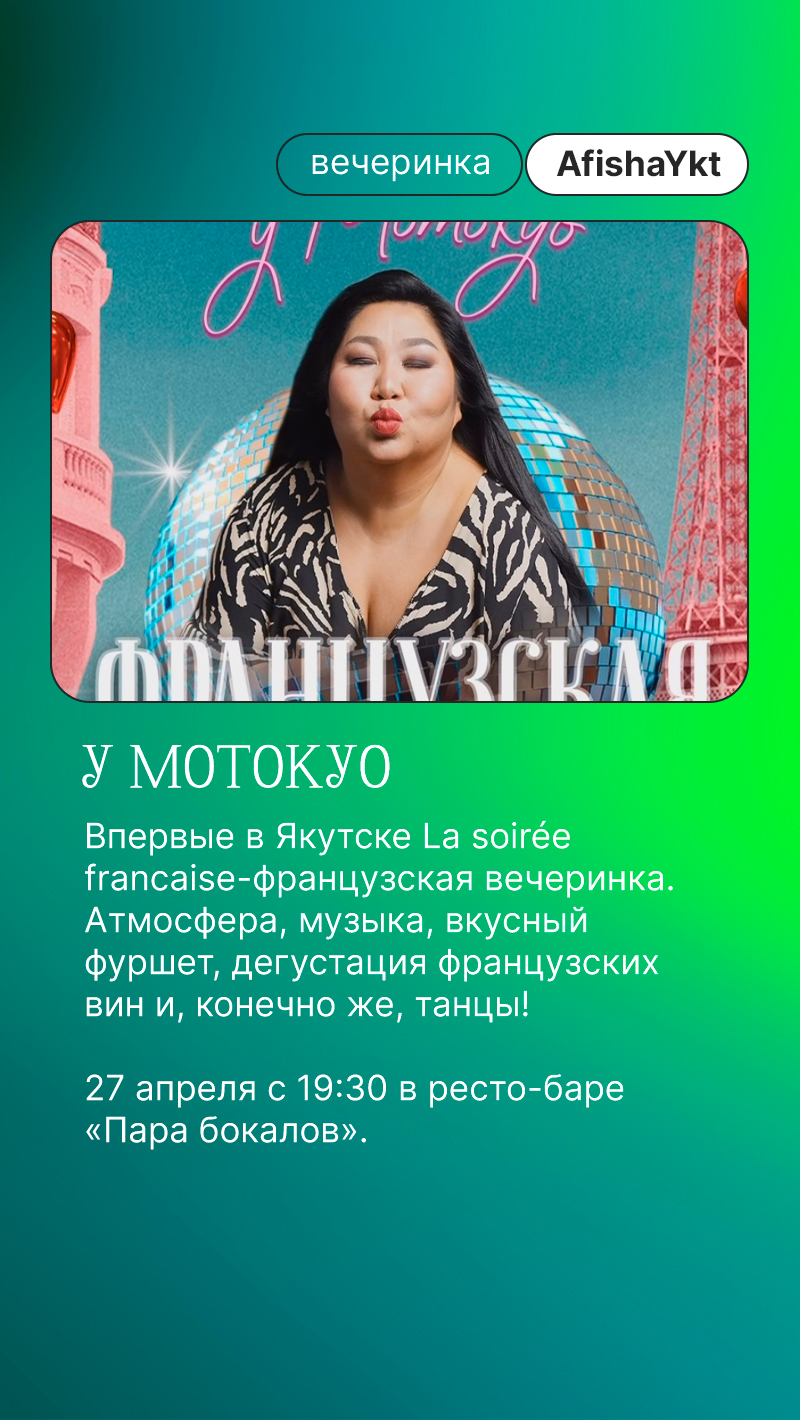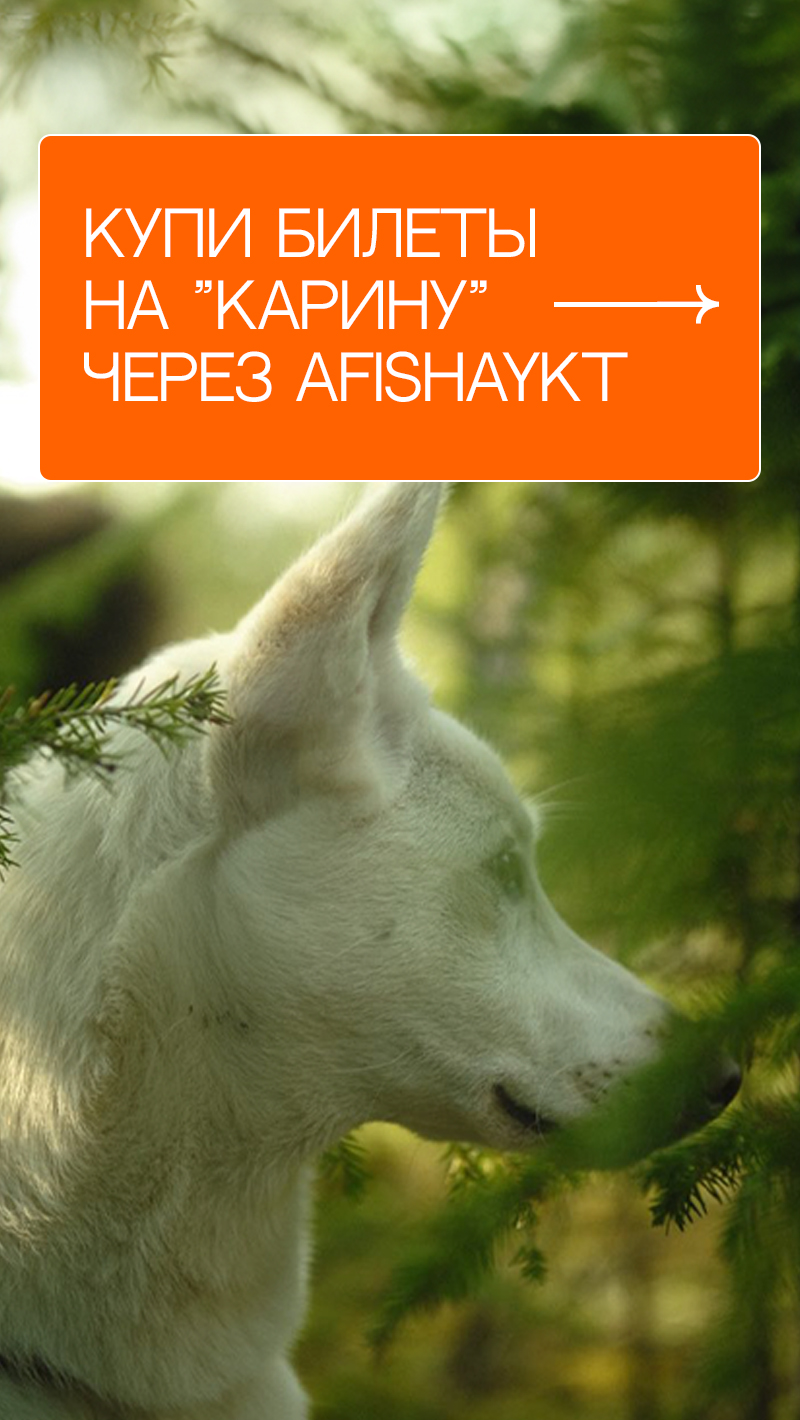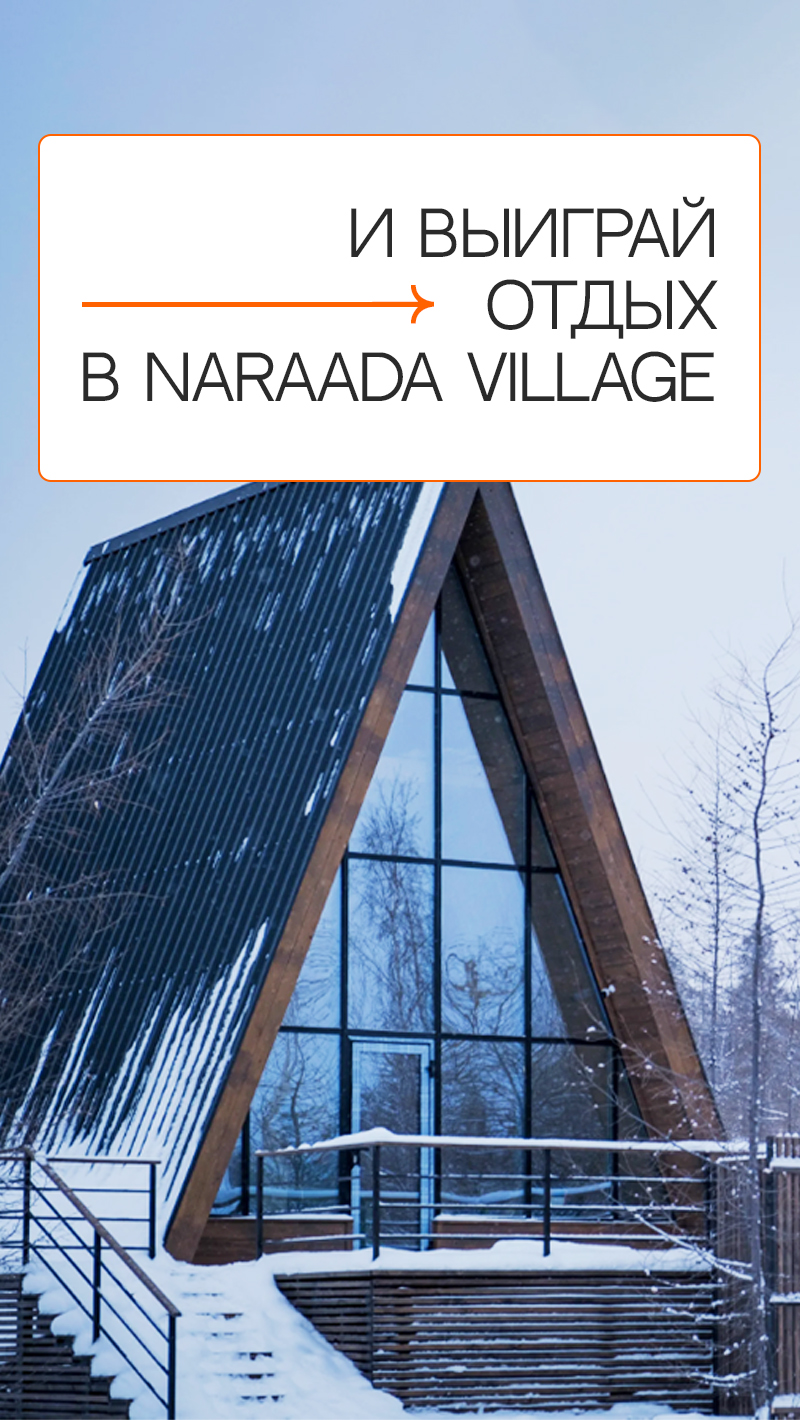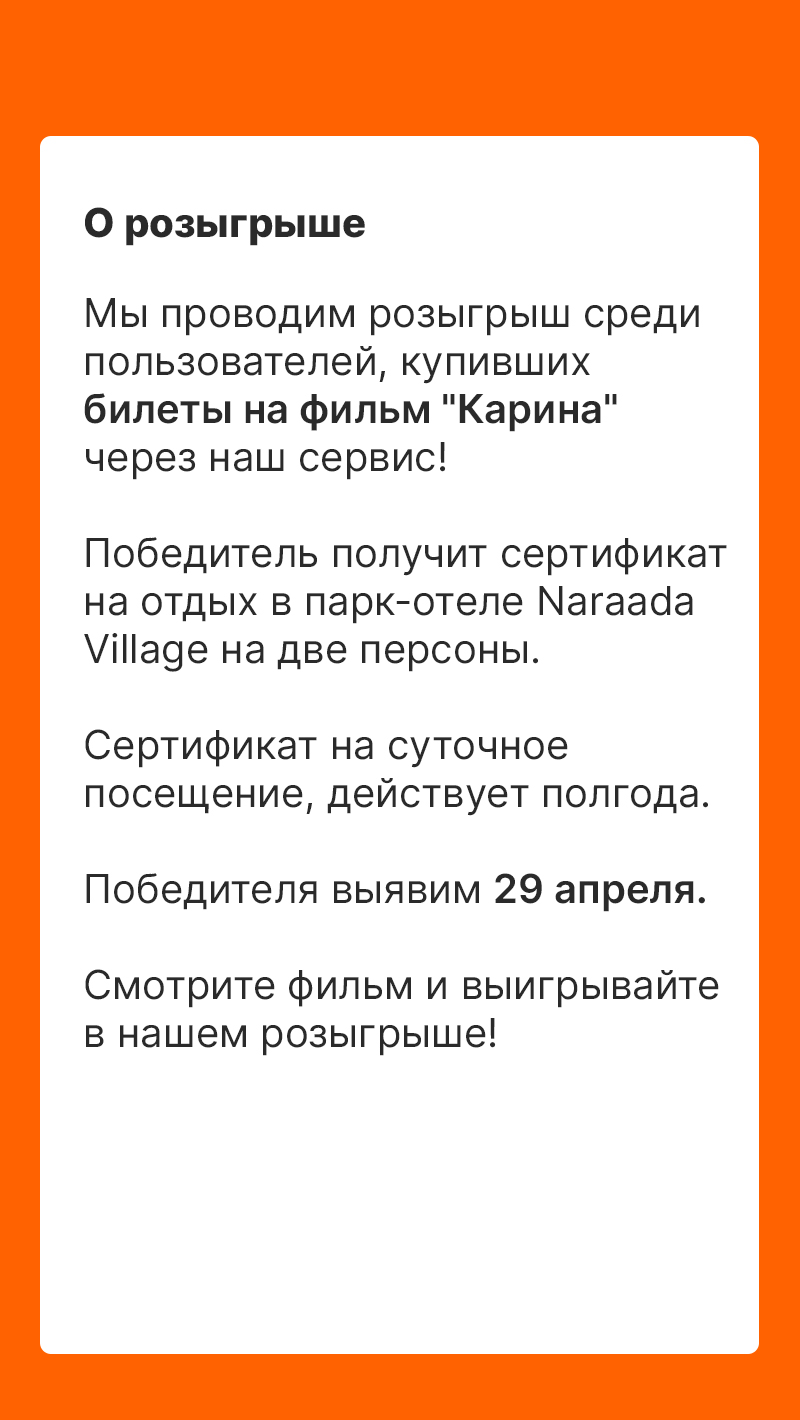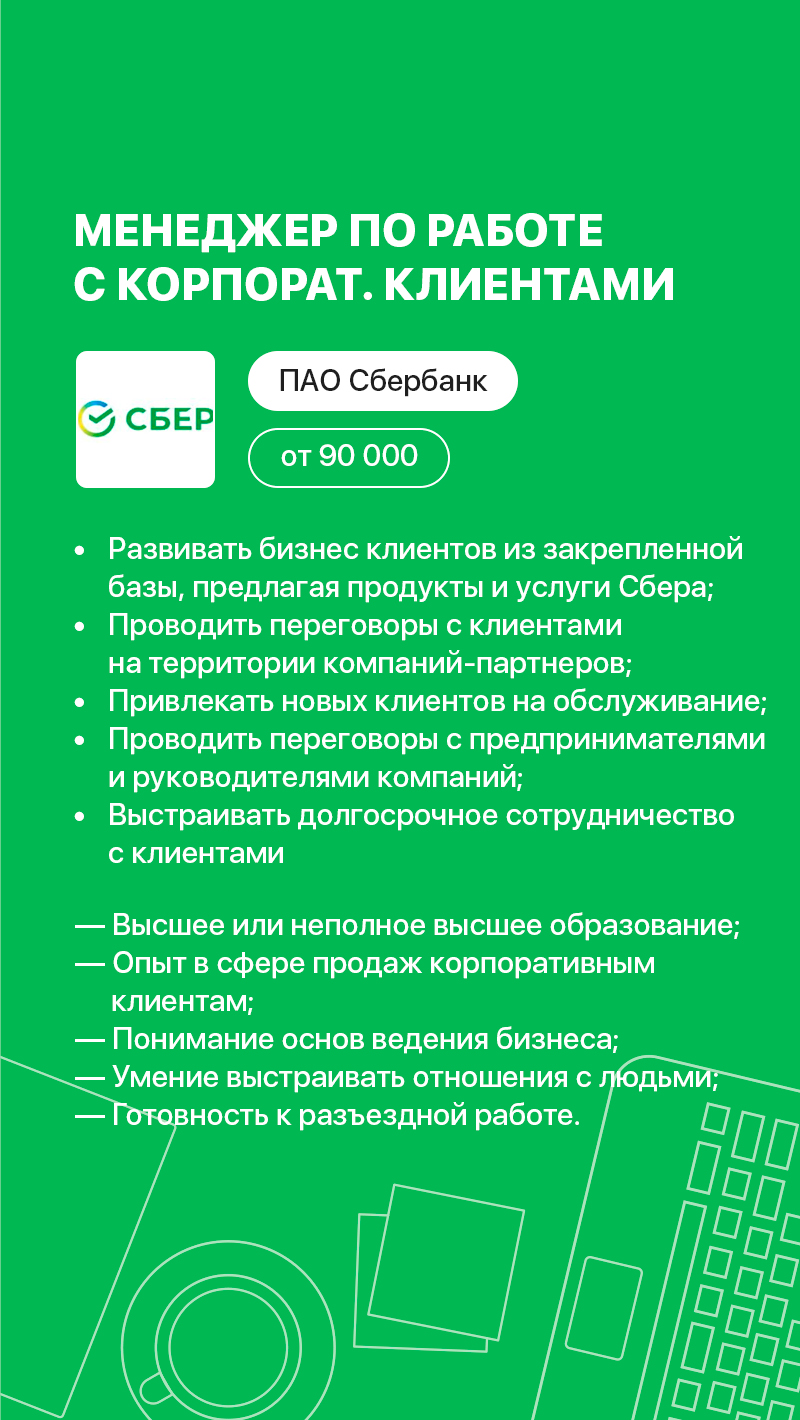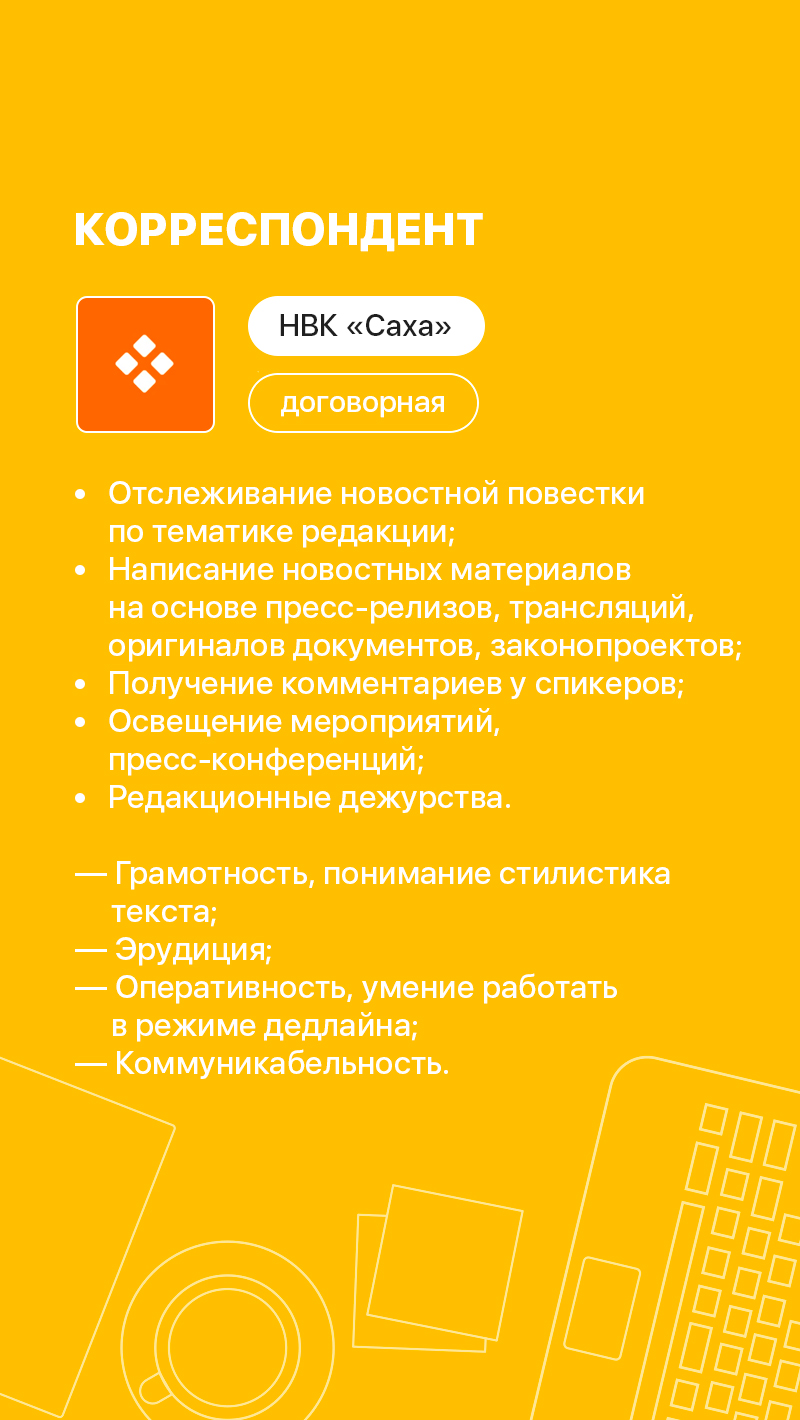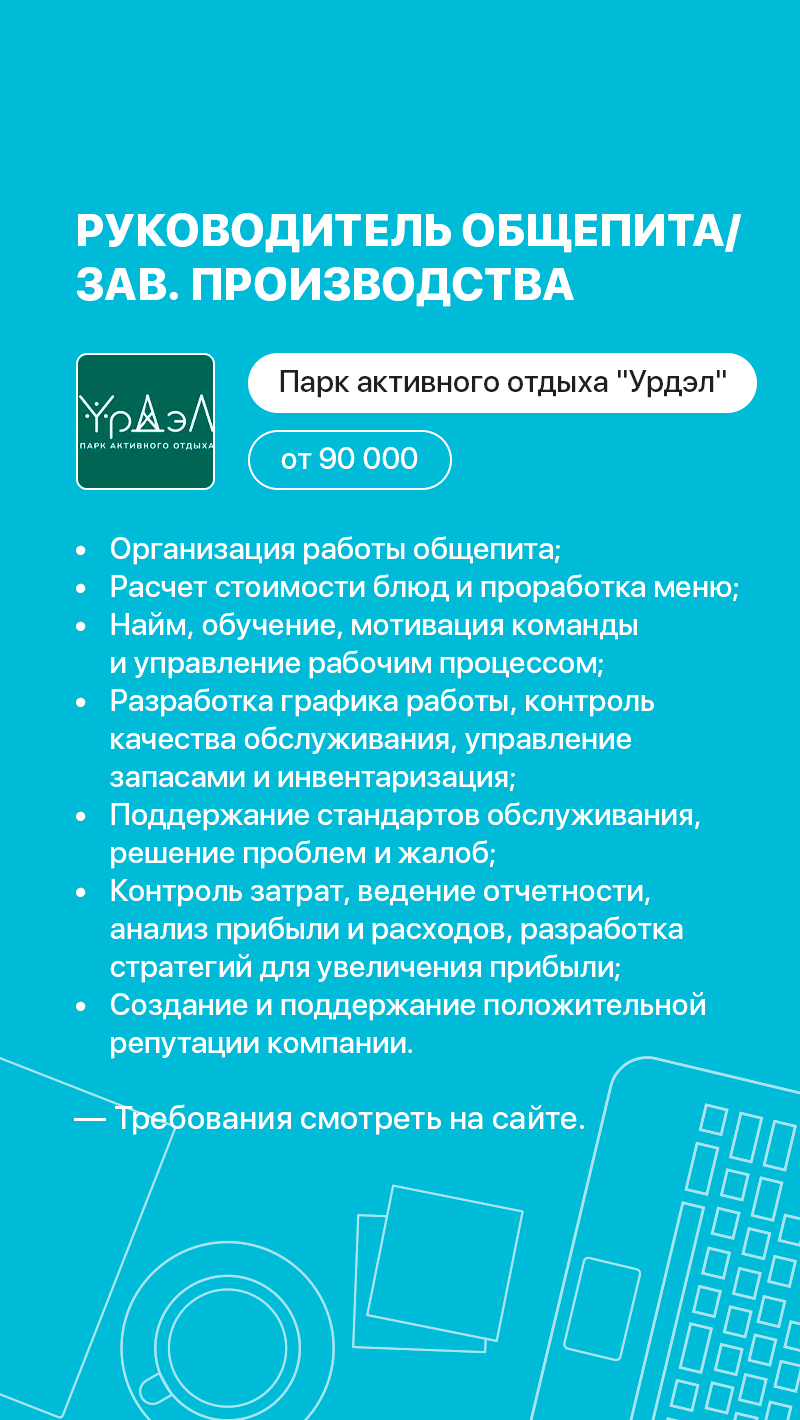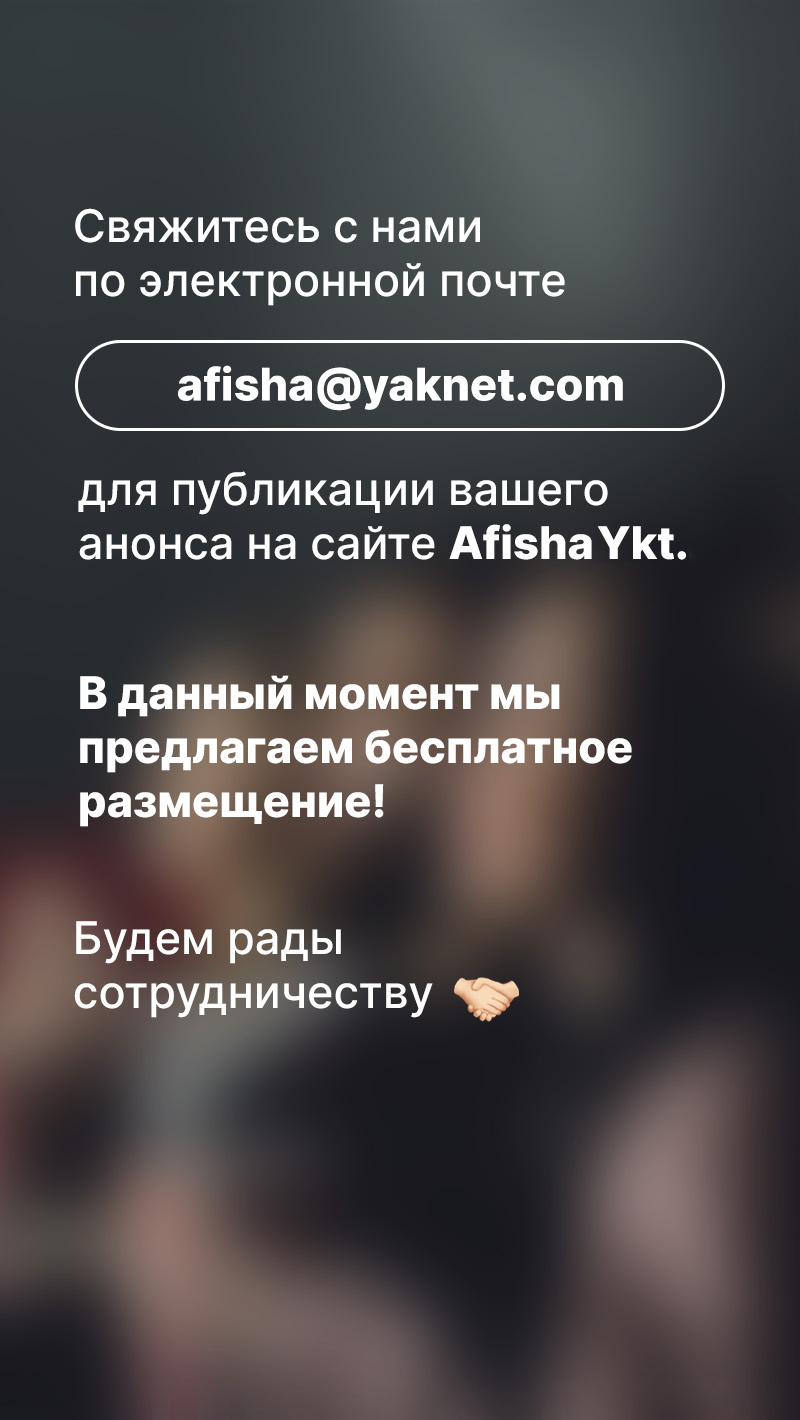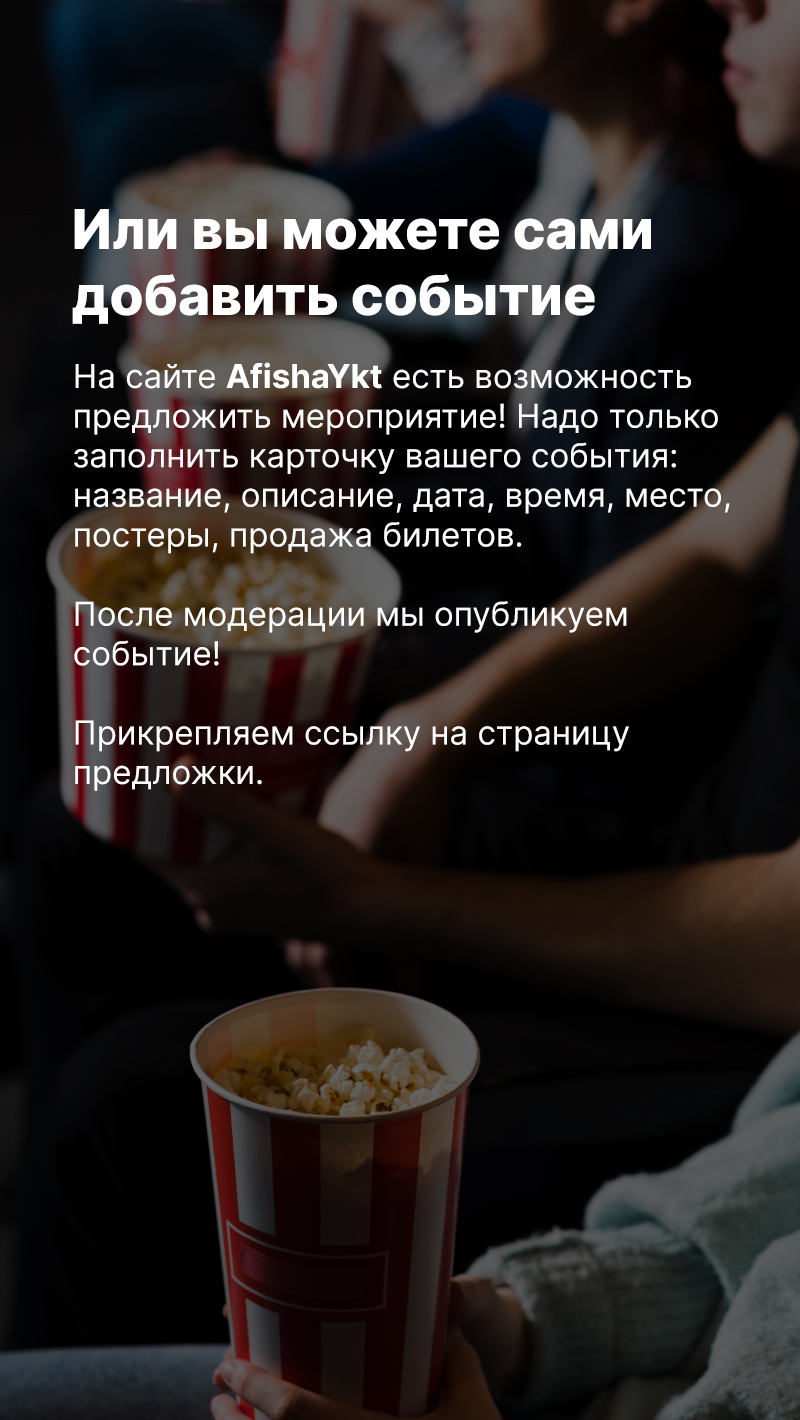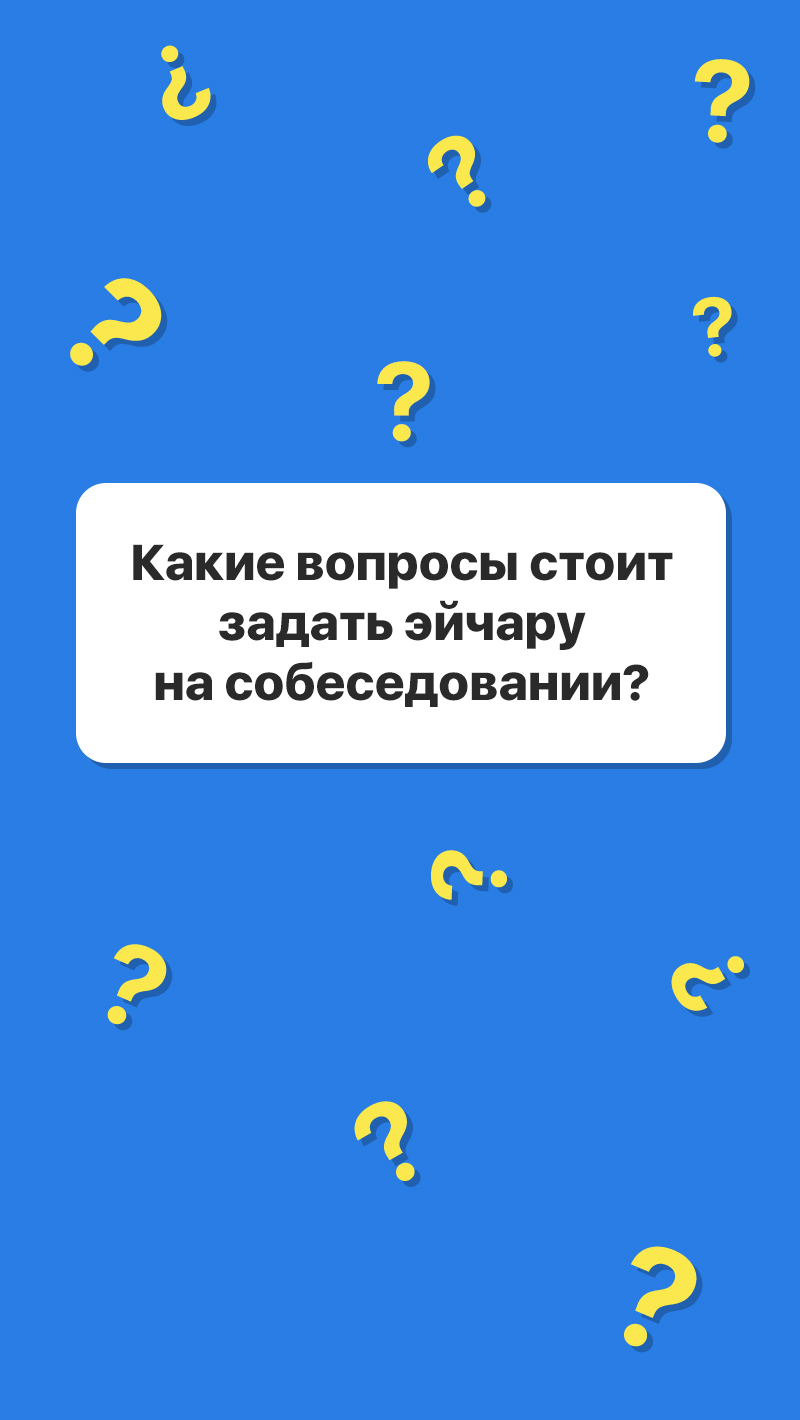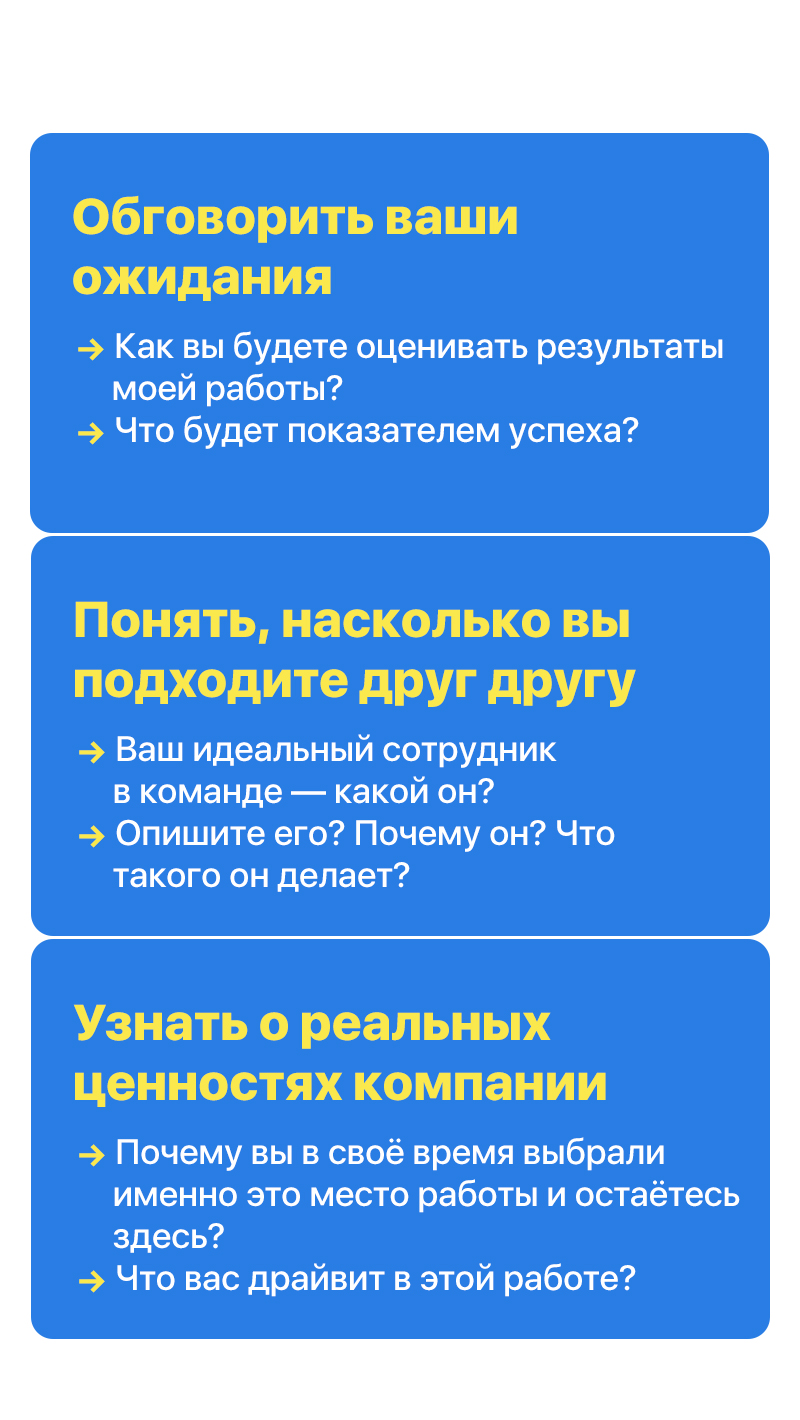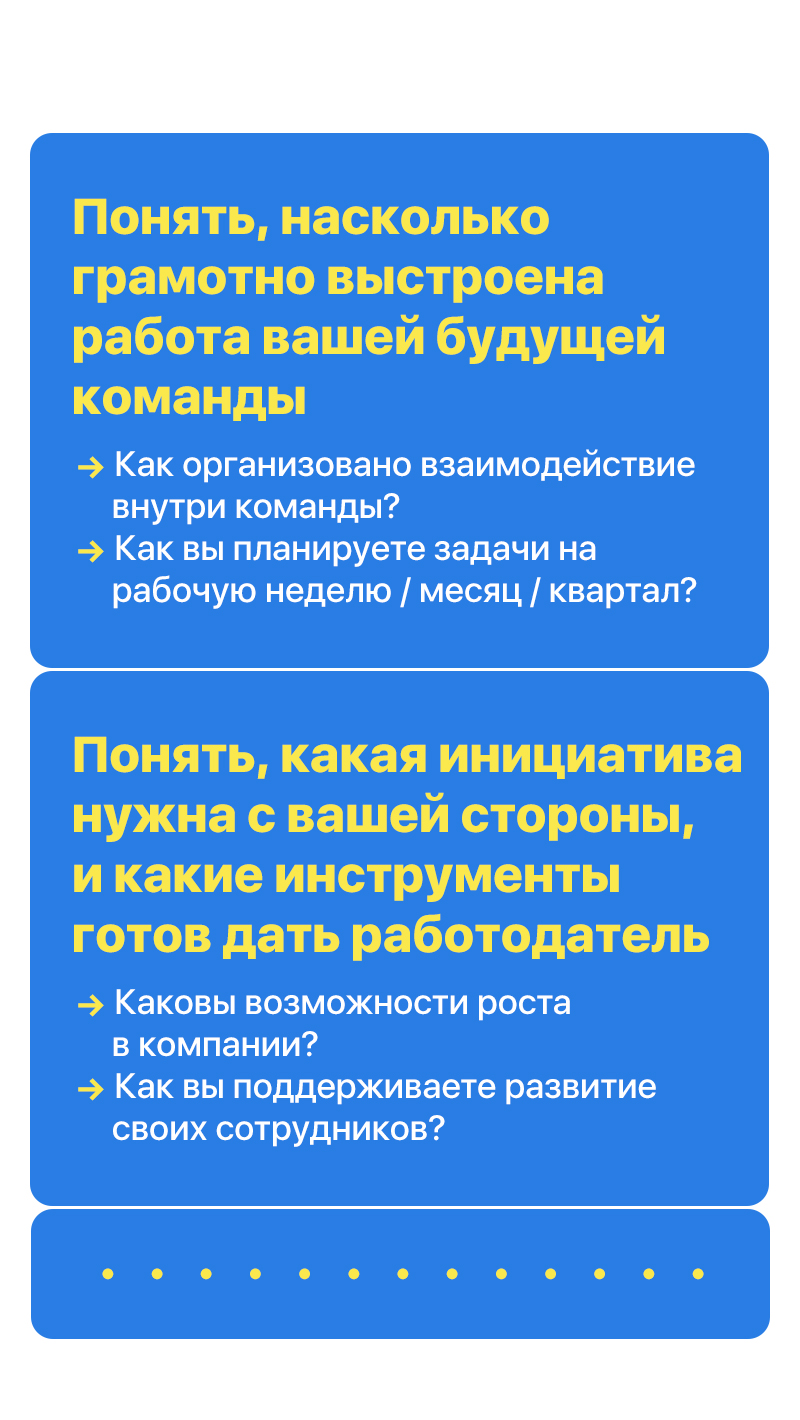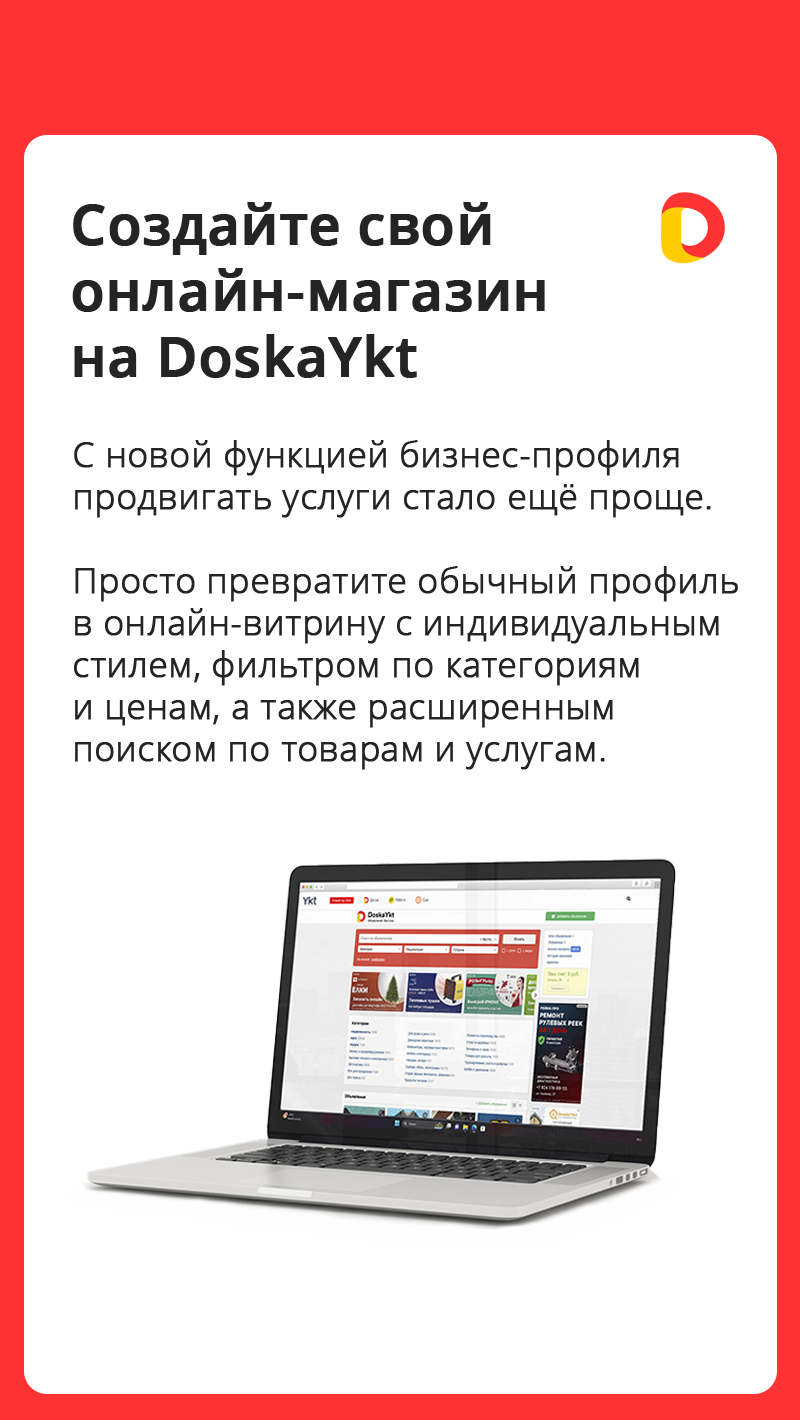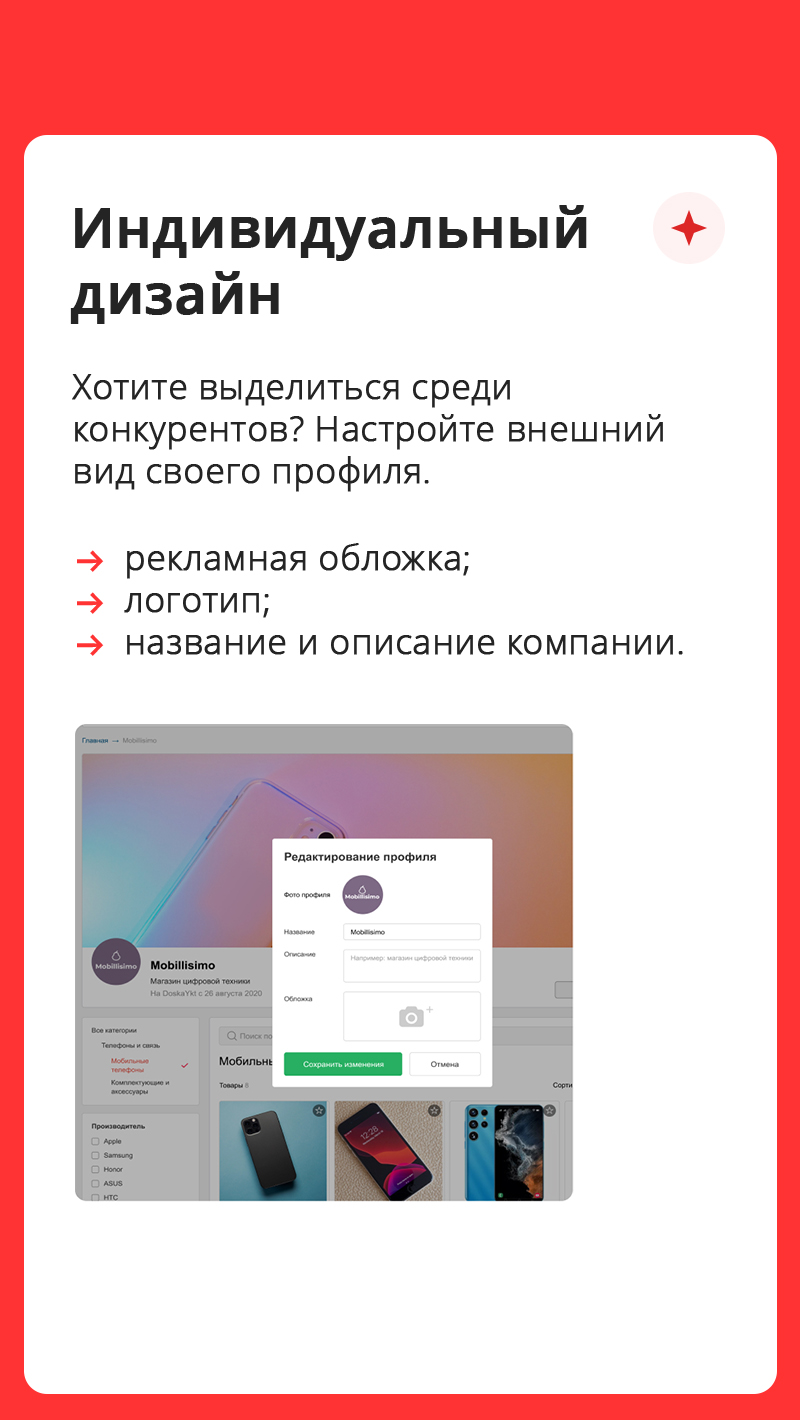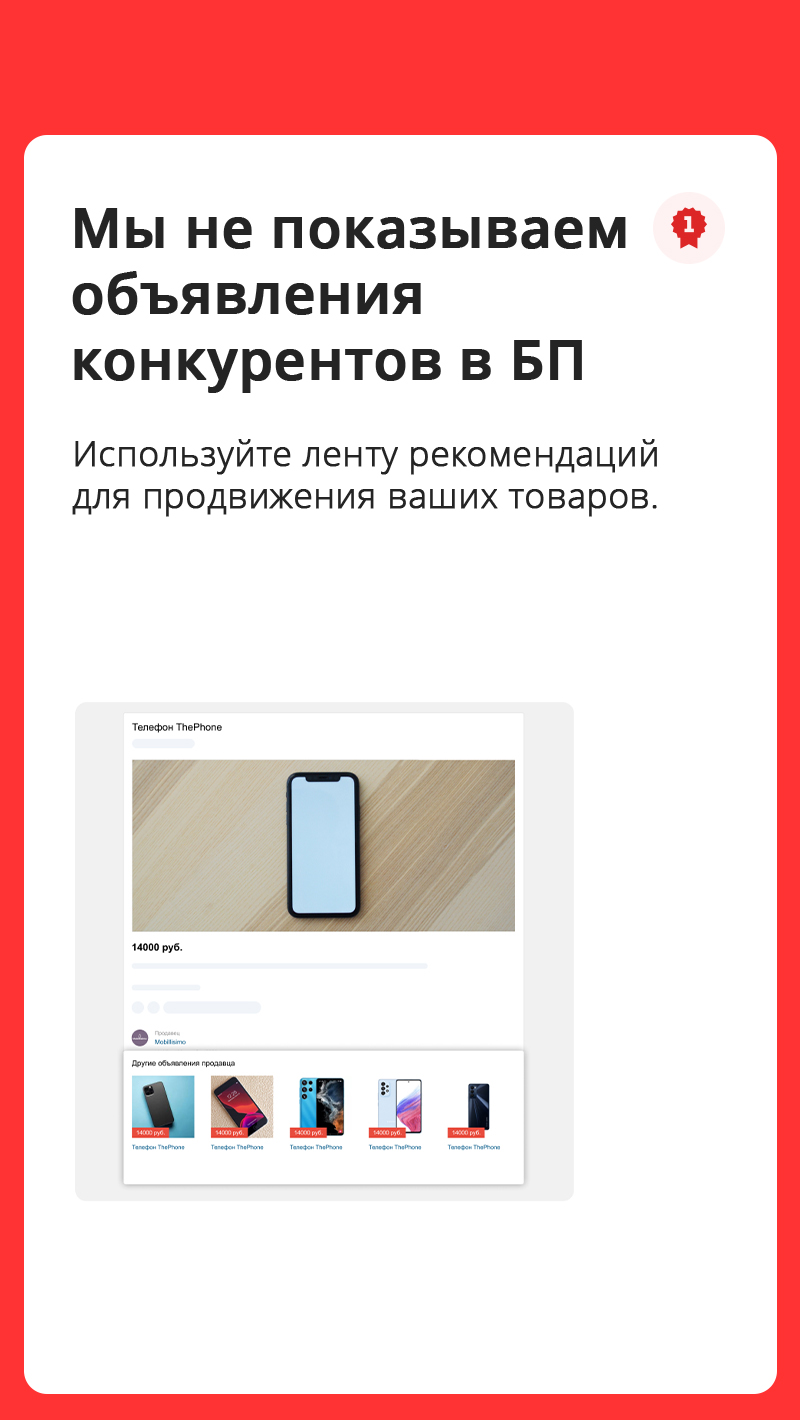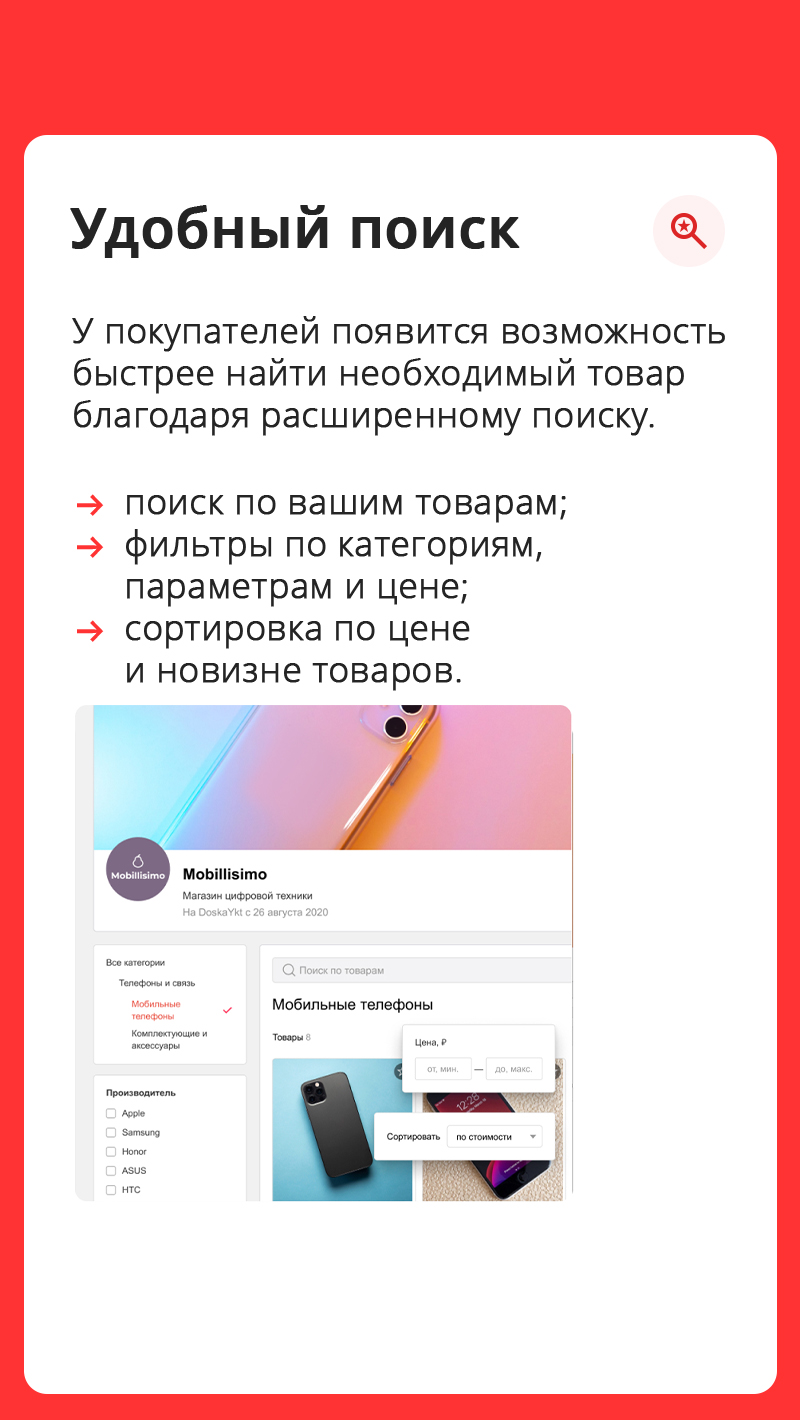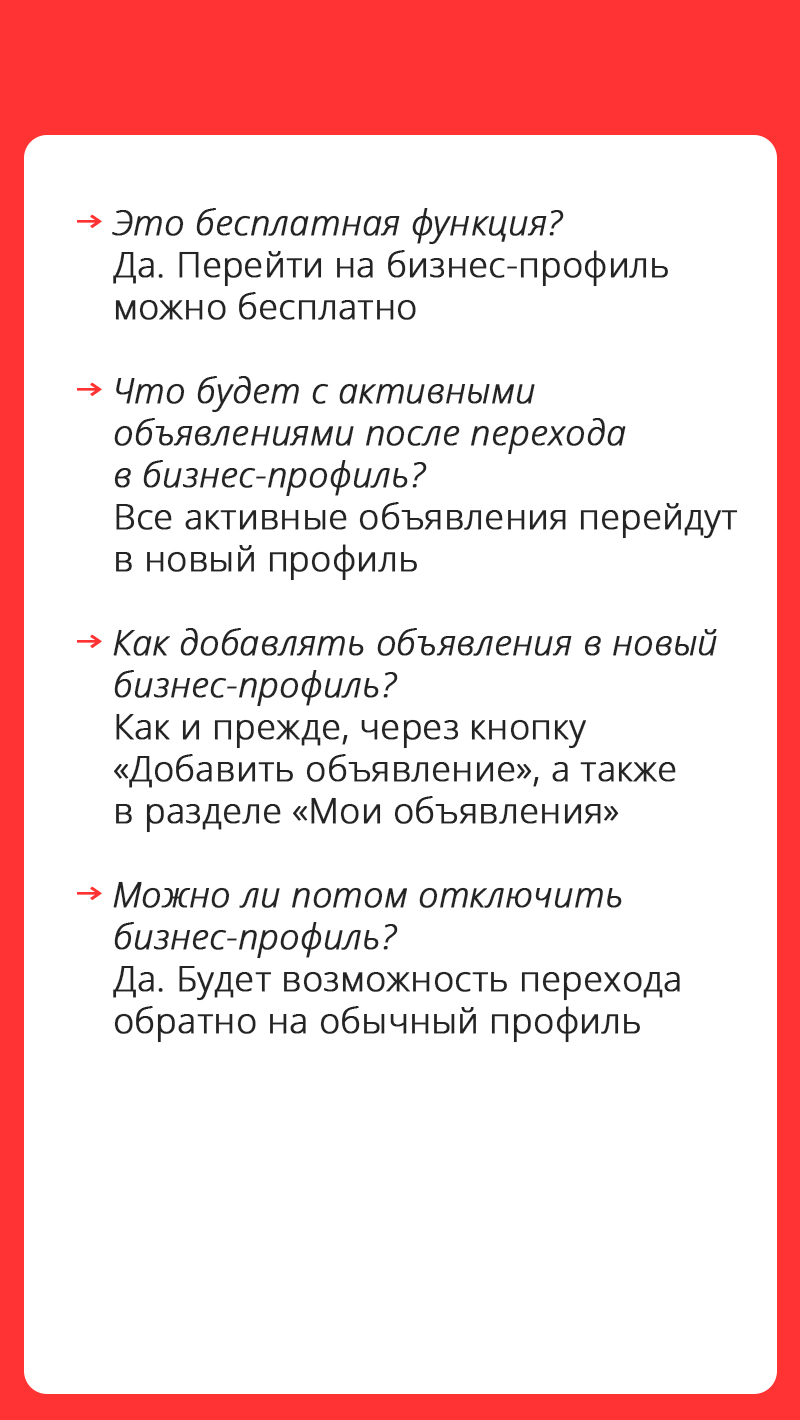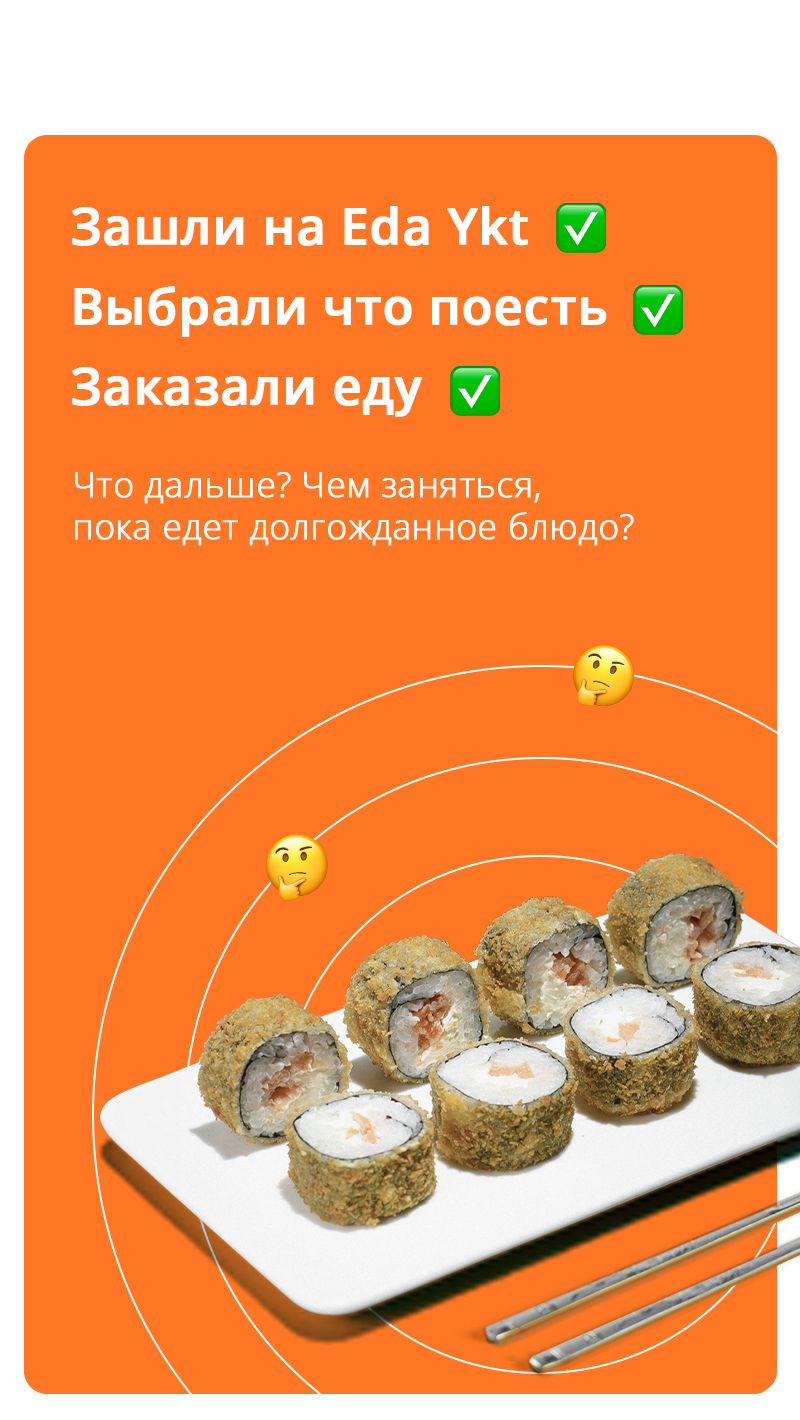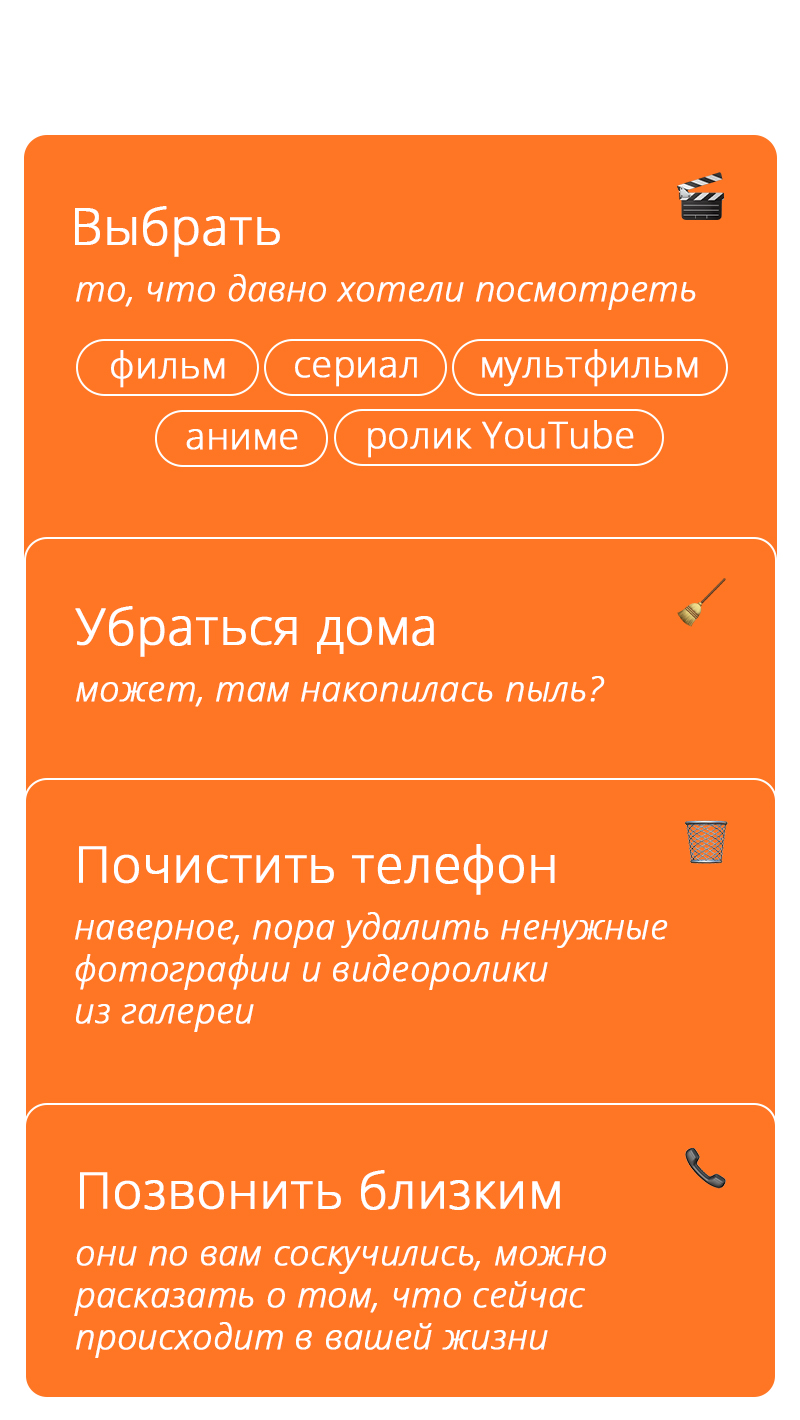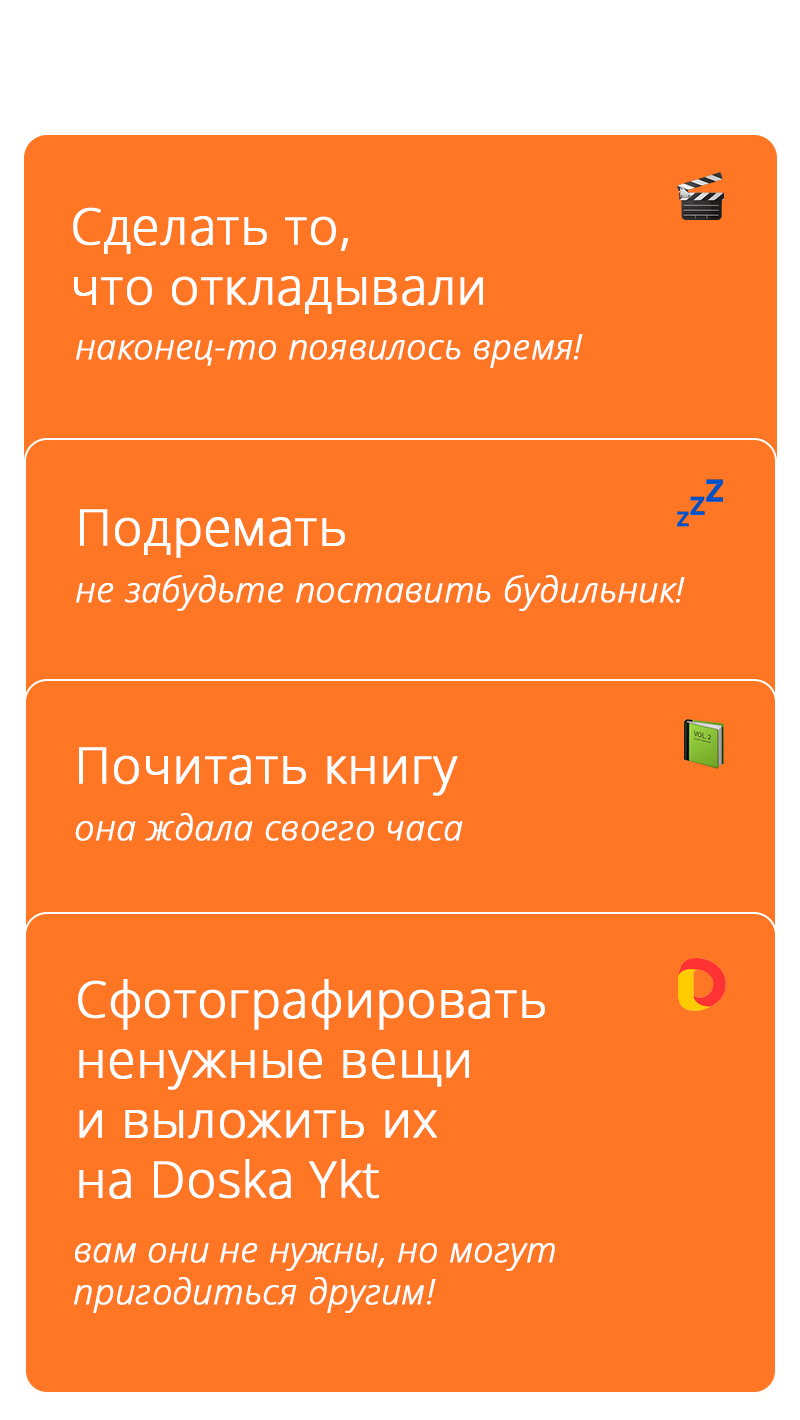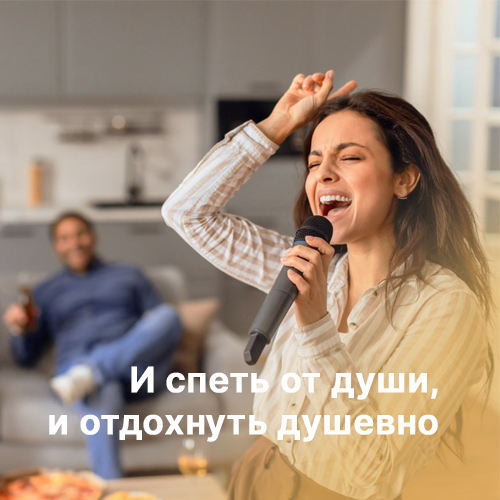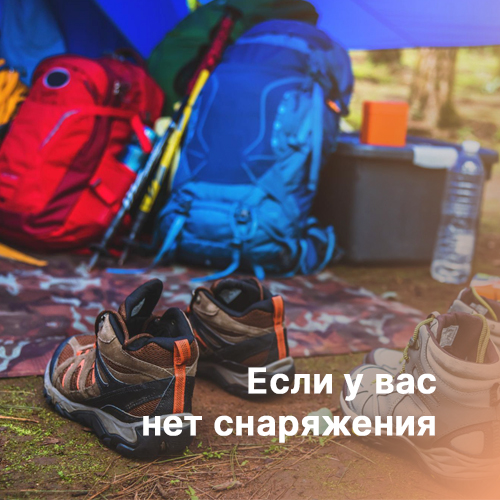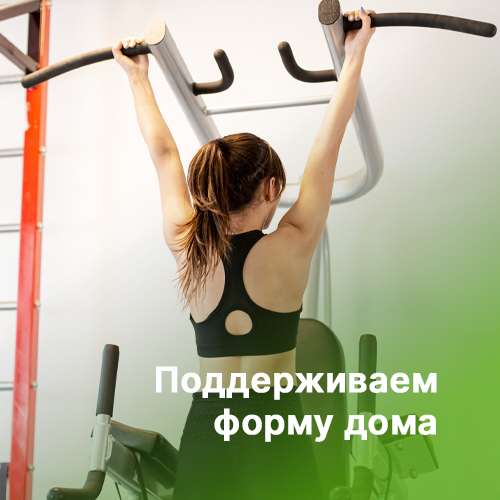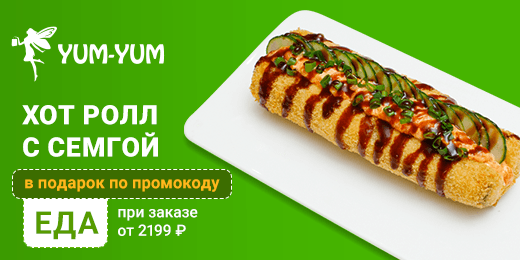«Там, где танцуют стерхи»

День Республики

Подборка событий на выходные

Майские выходные

Отдых в Naraada за билет

Вакансии дня 27.04

Гороскоп 22.04-28.04

Ваше событие на AfishaYkt

Вопросы на собесе

Cвой онлайн-магазин

Пока ждёшь доставку

Мы в соцсетях

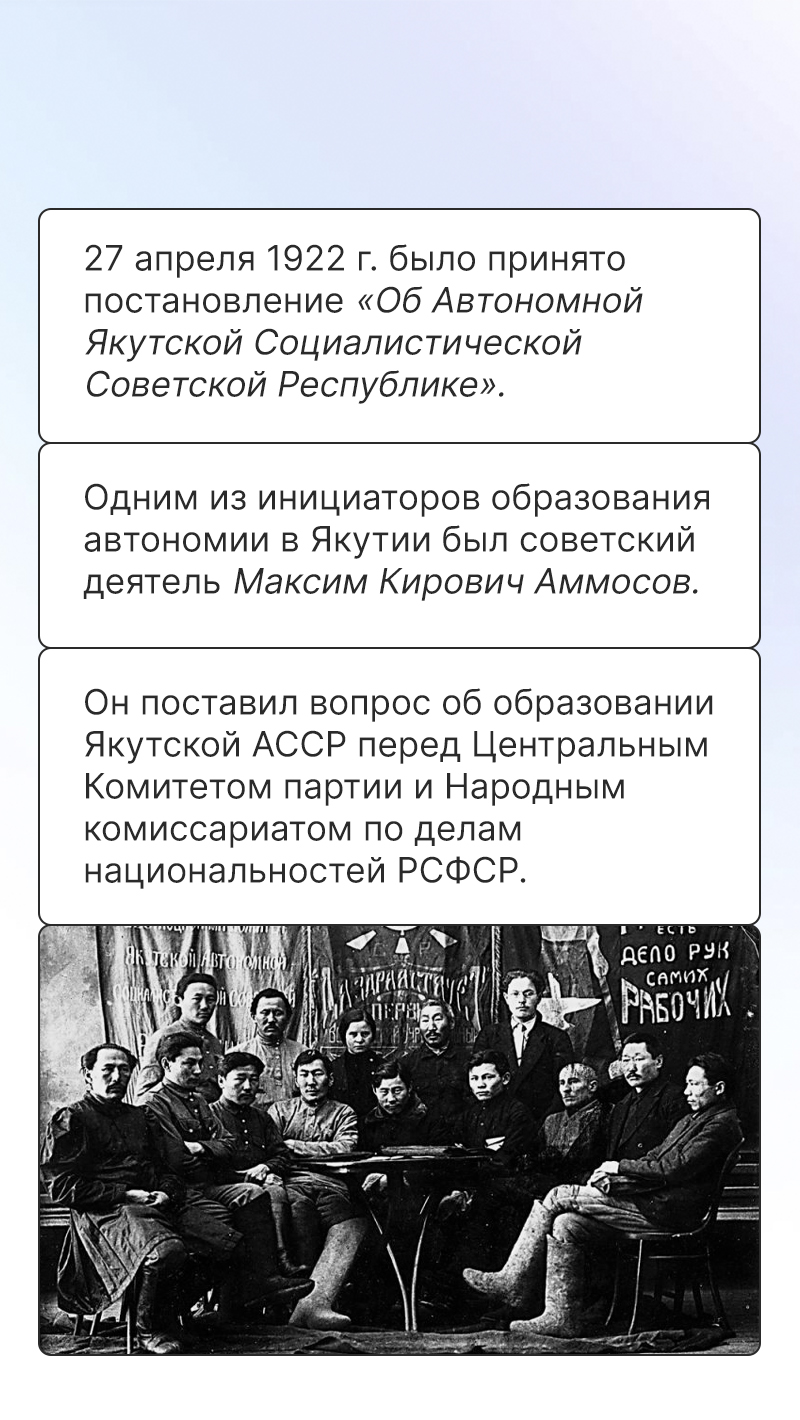
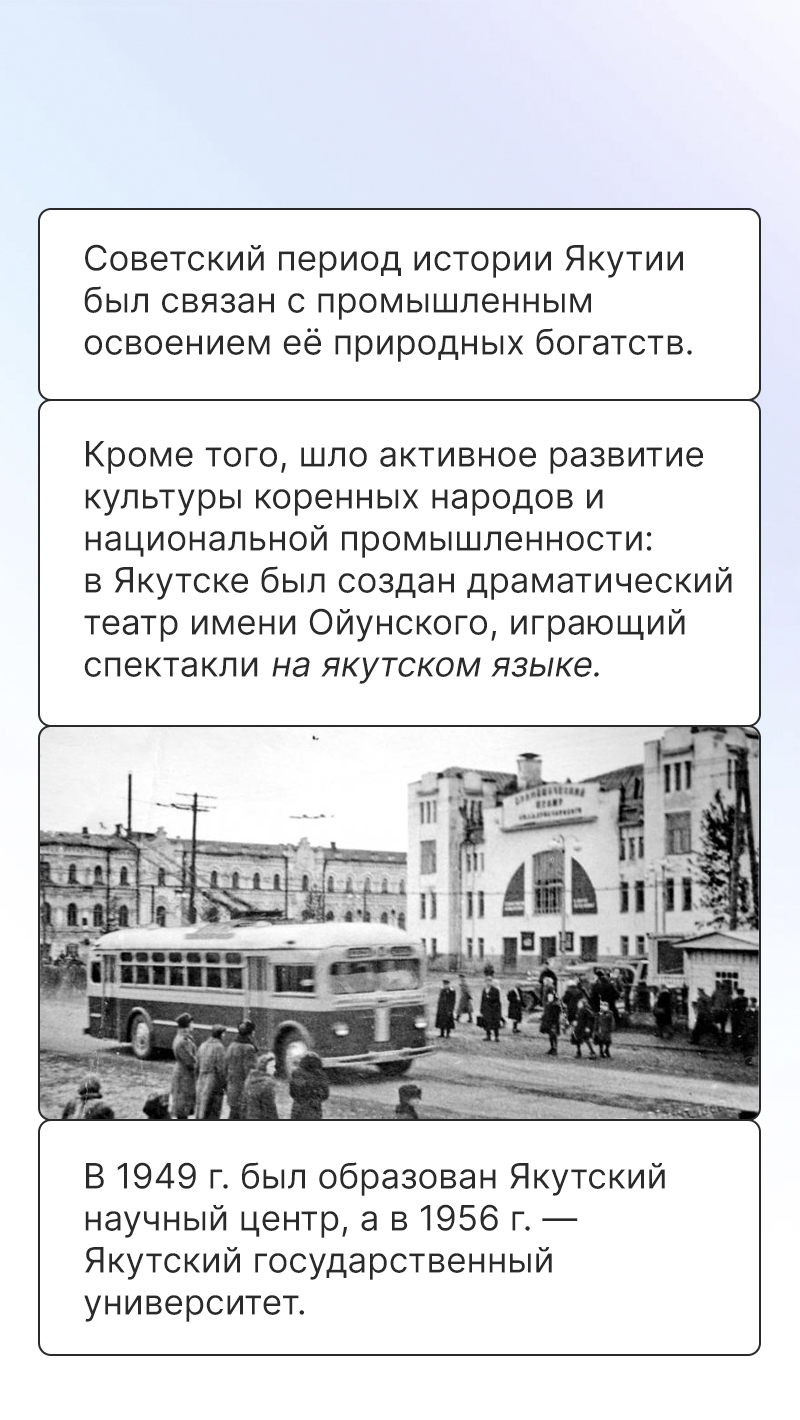
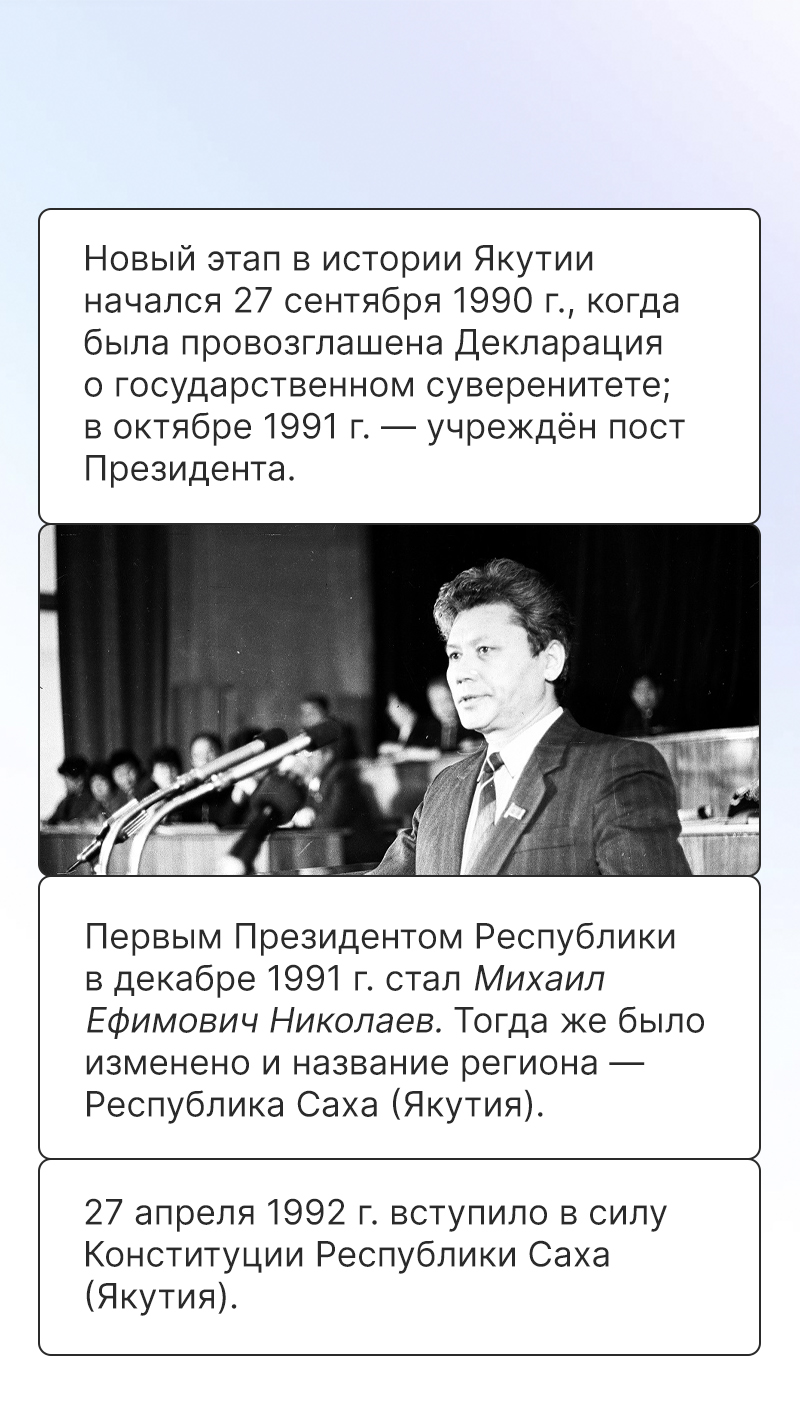
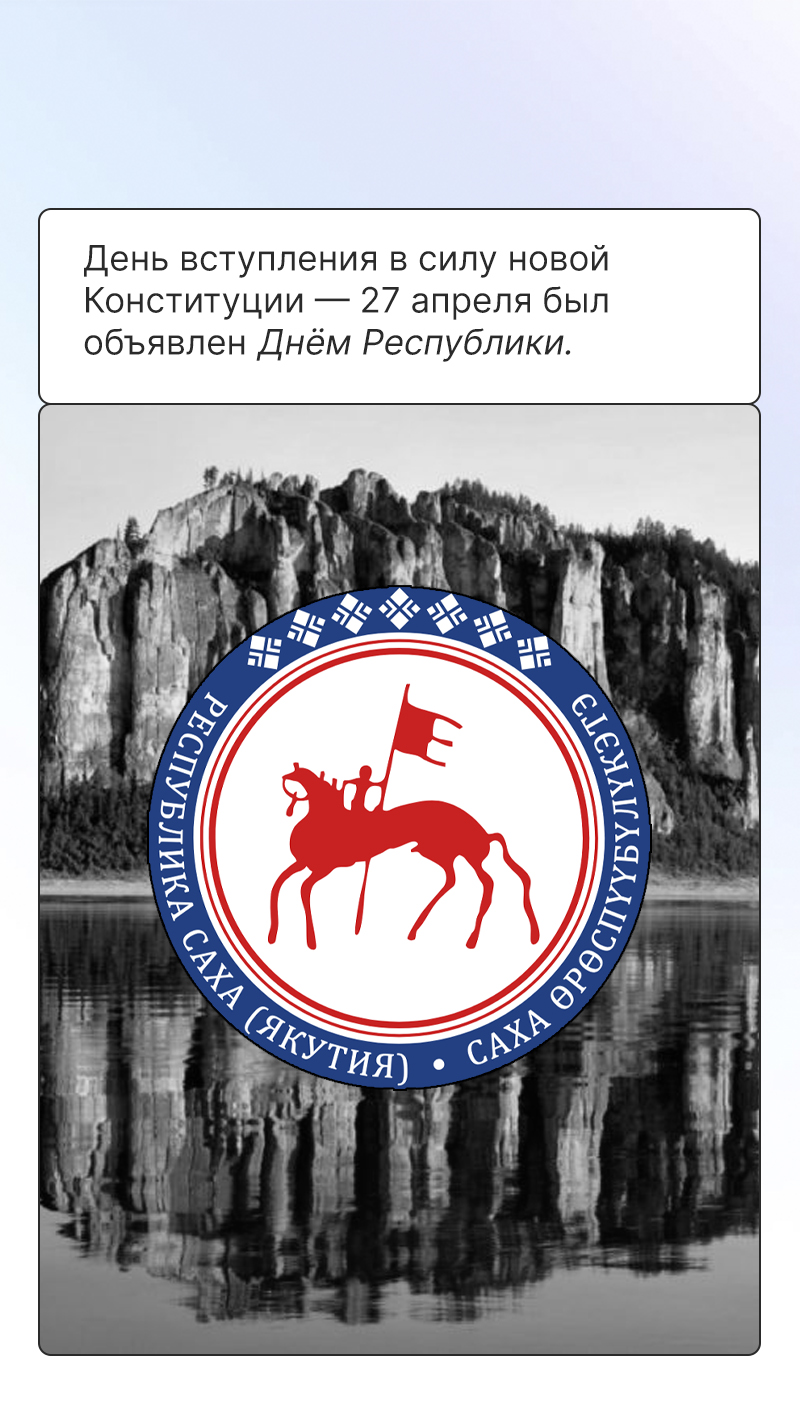

День Республики Саха (Якутия)

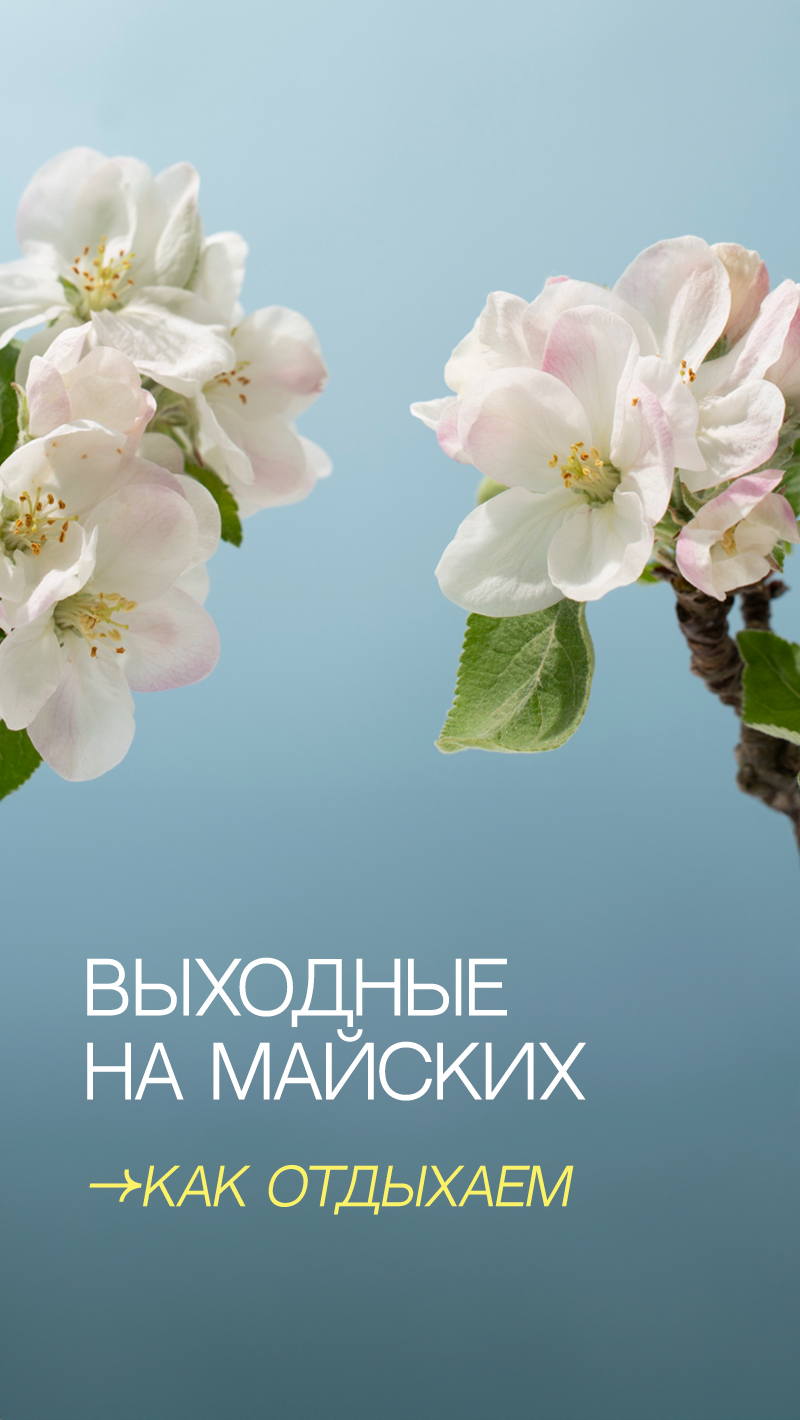

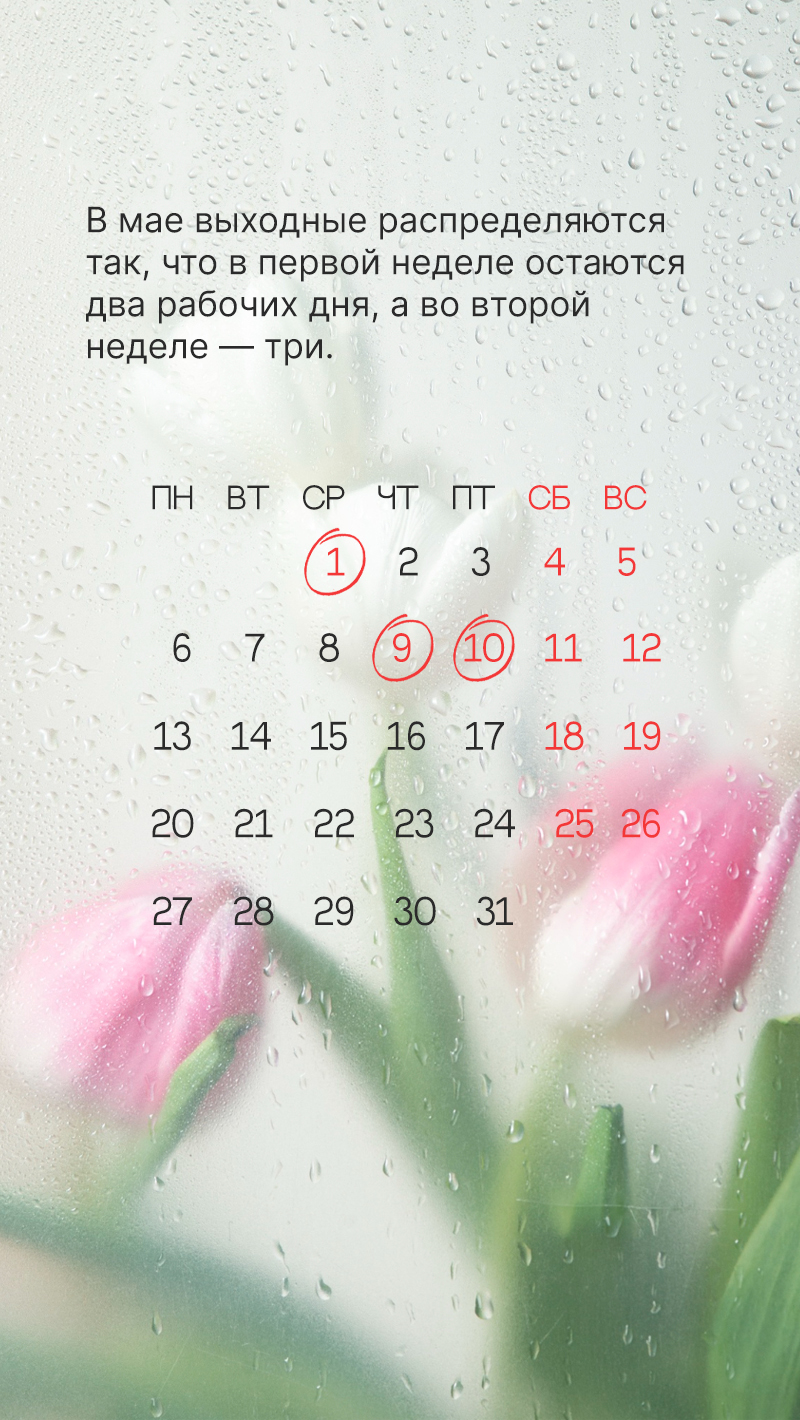

Ykt.Ru

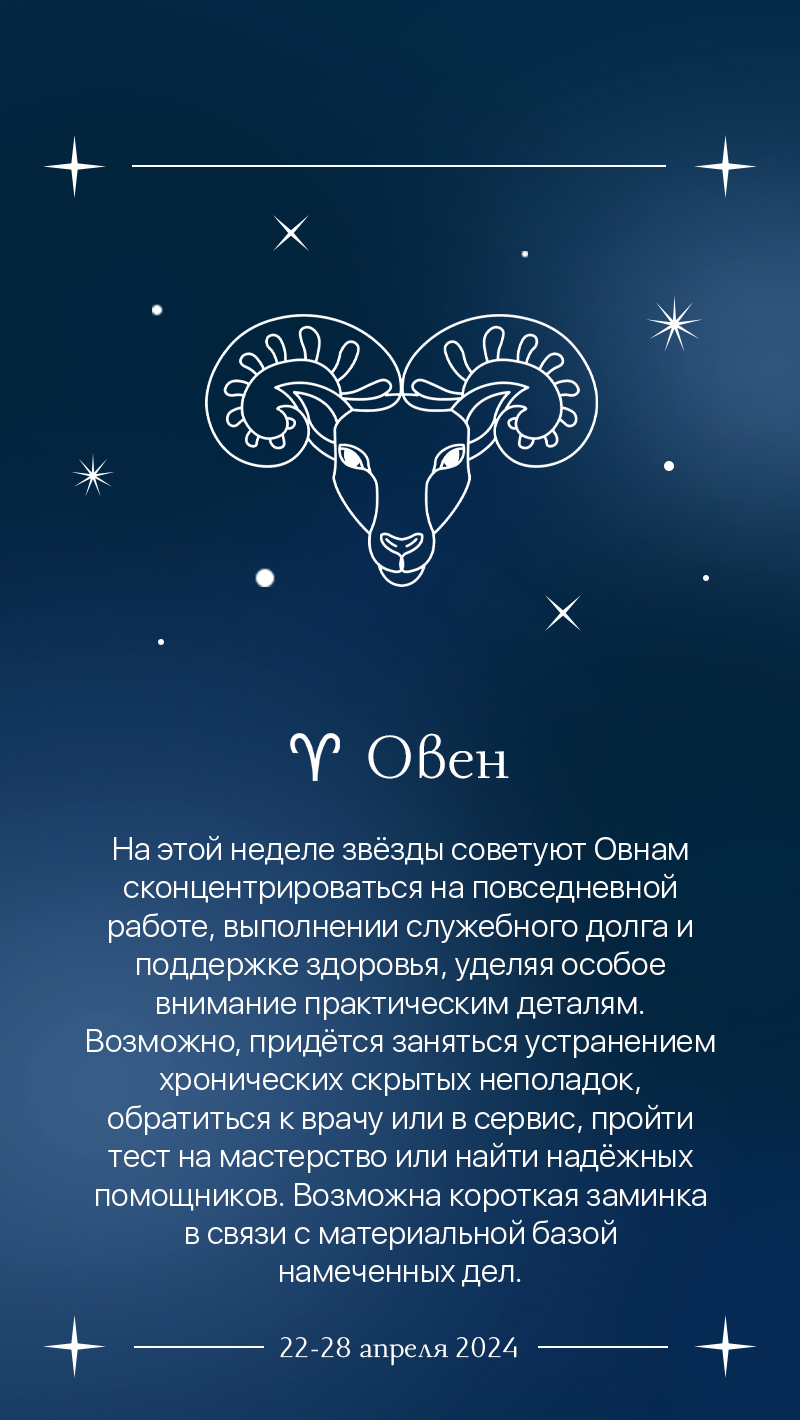
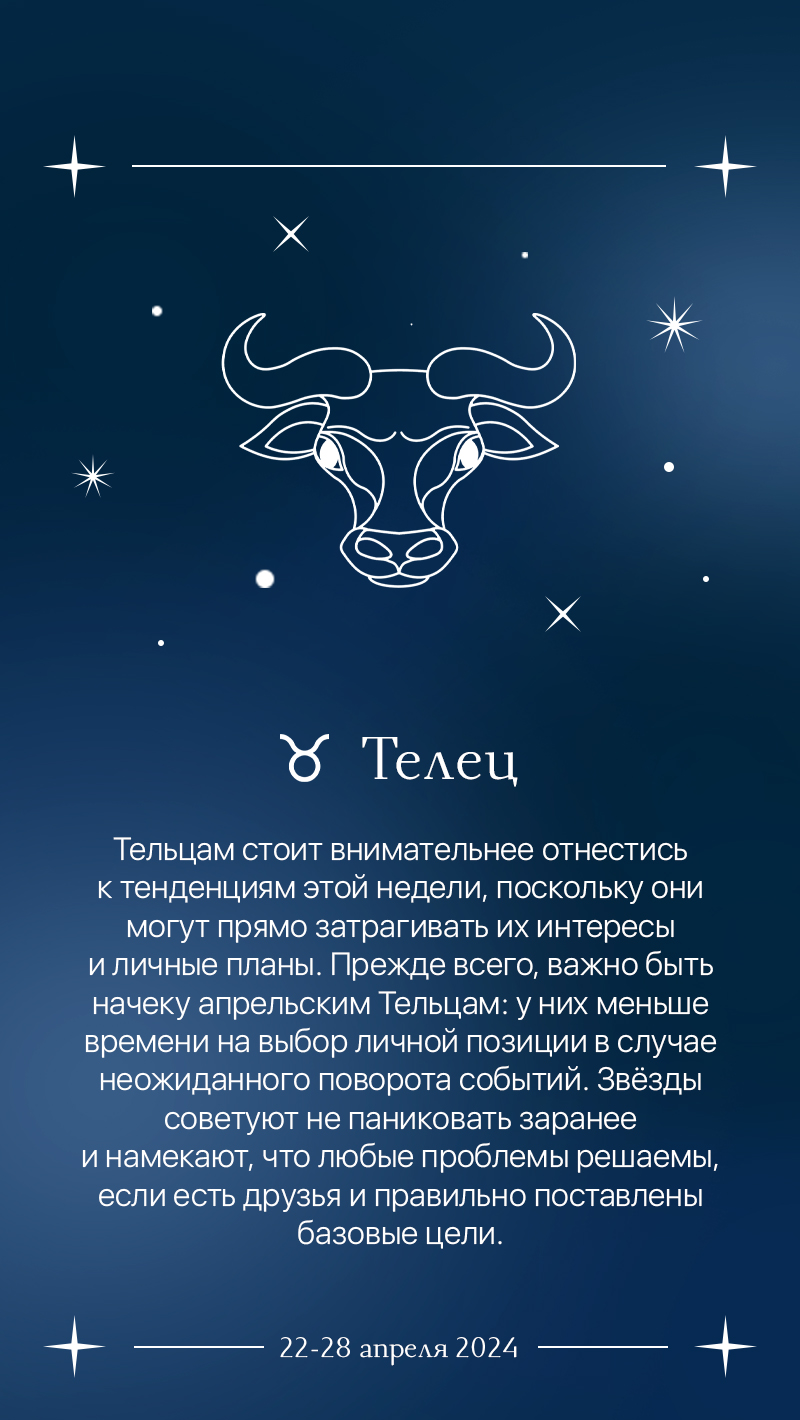
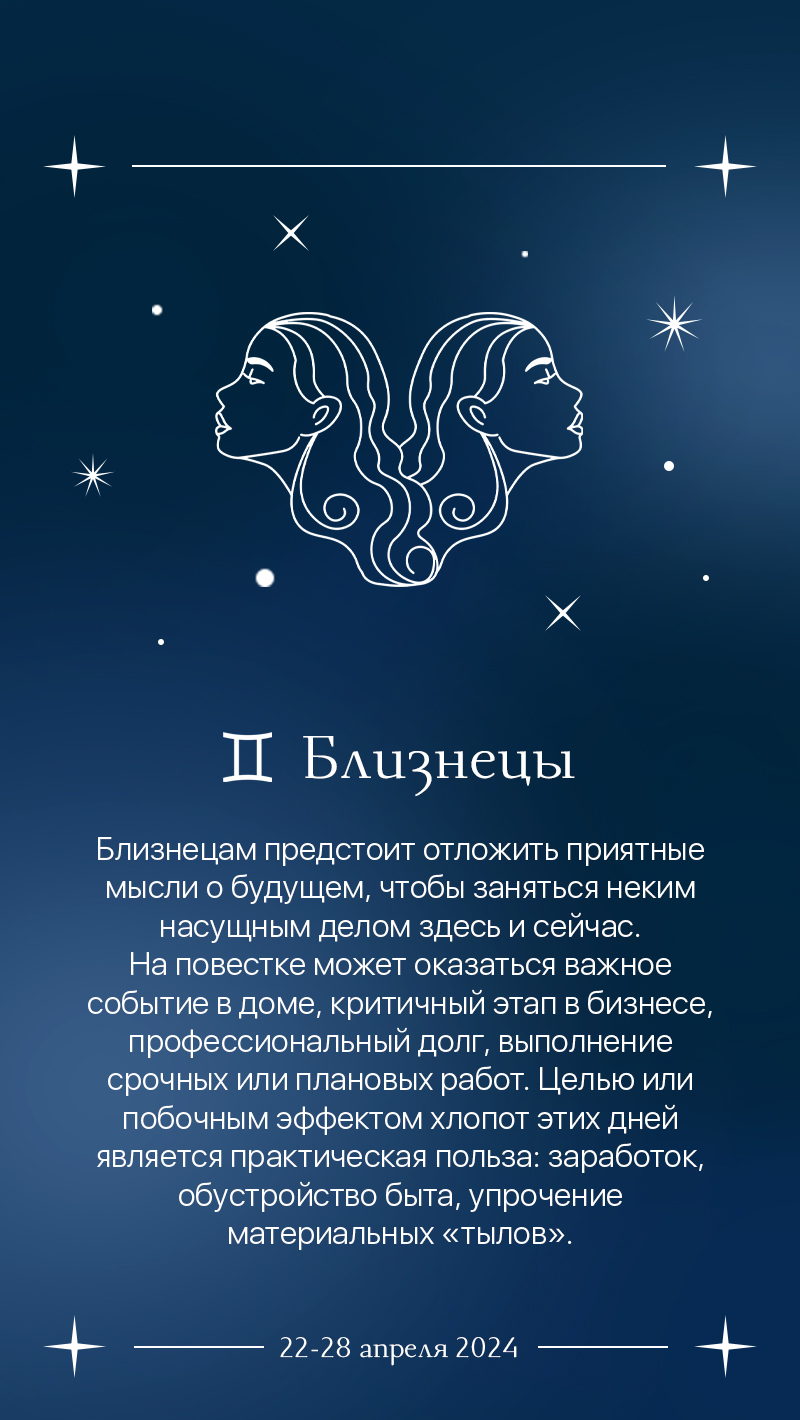
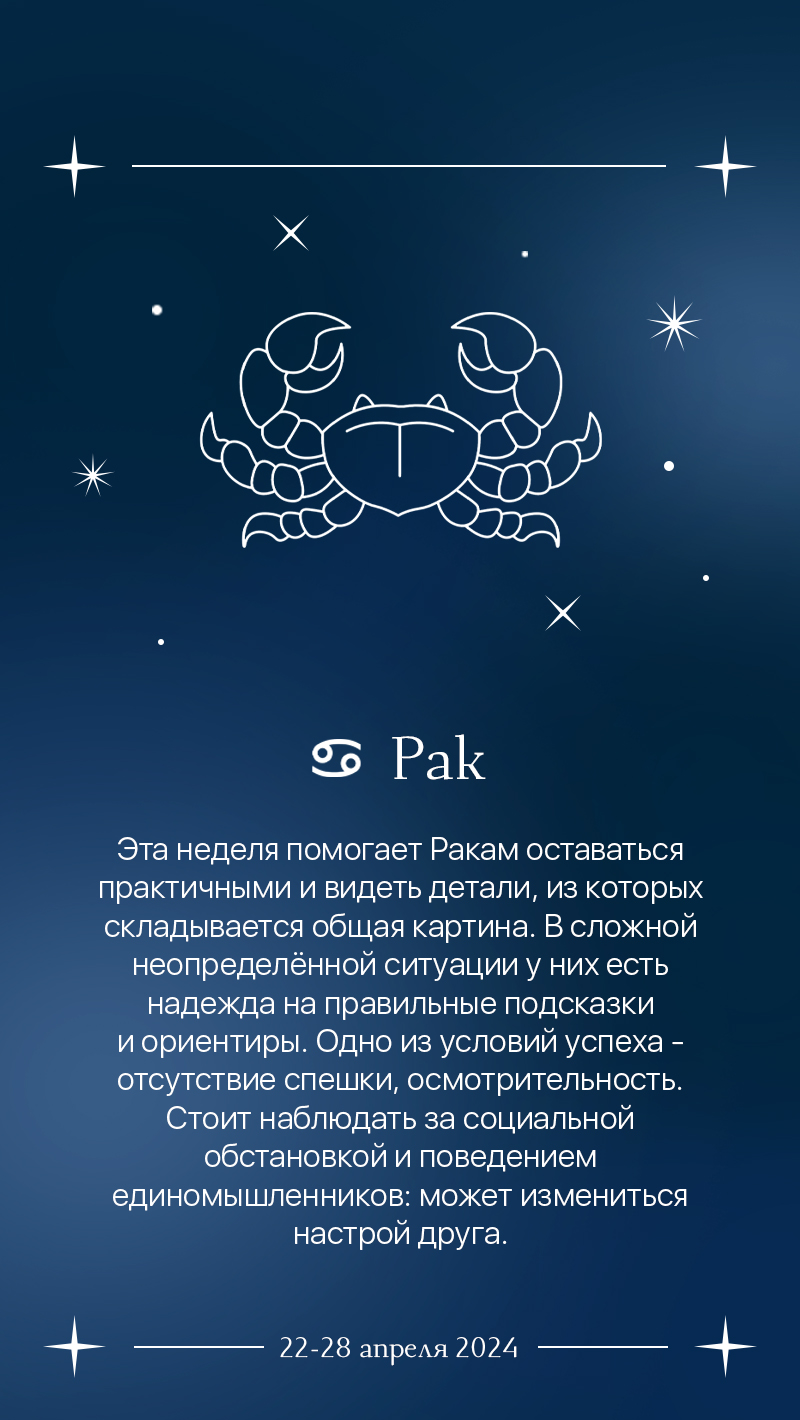
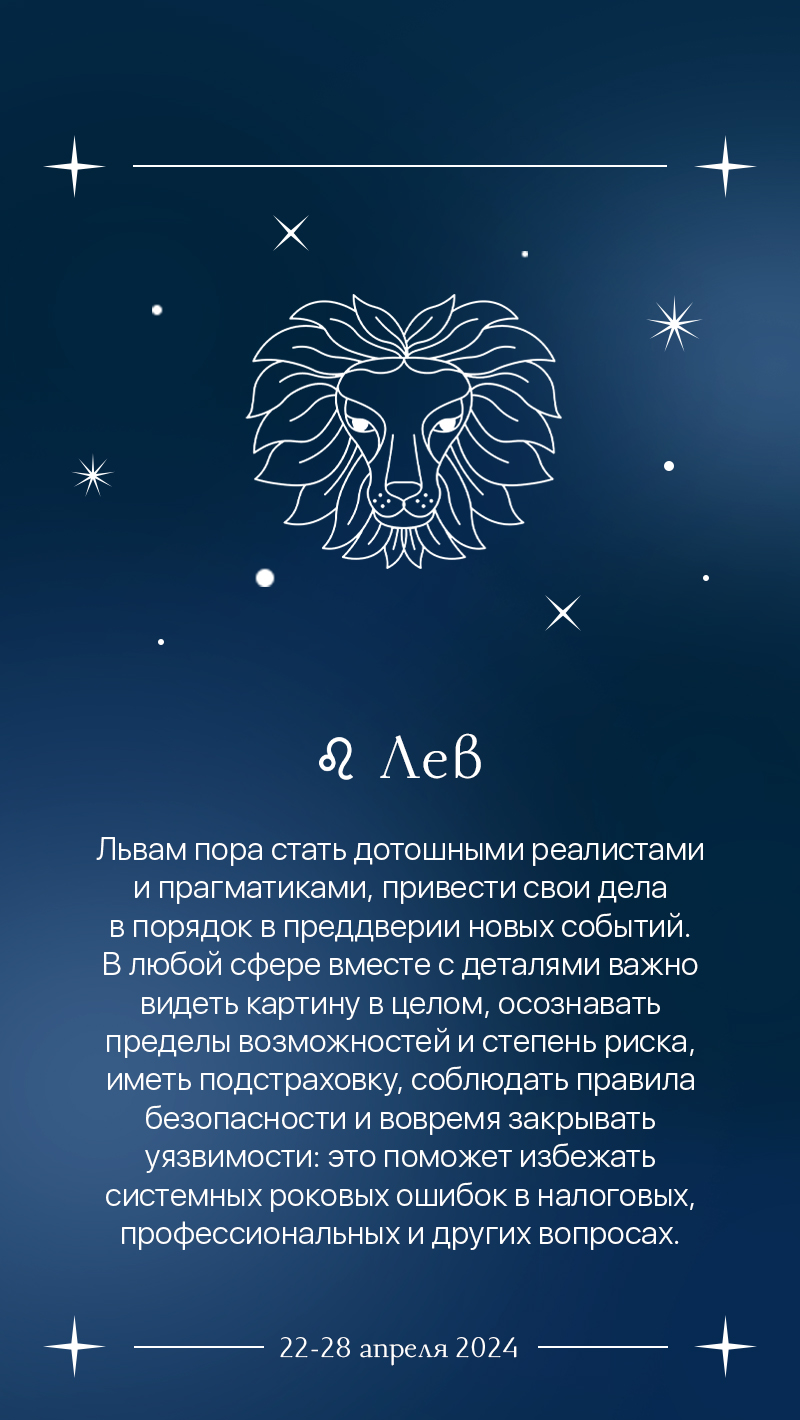
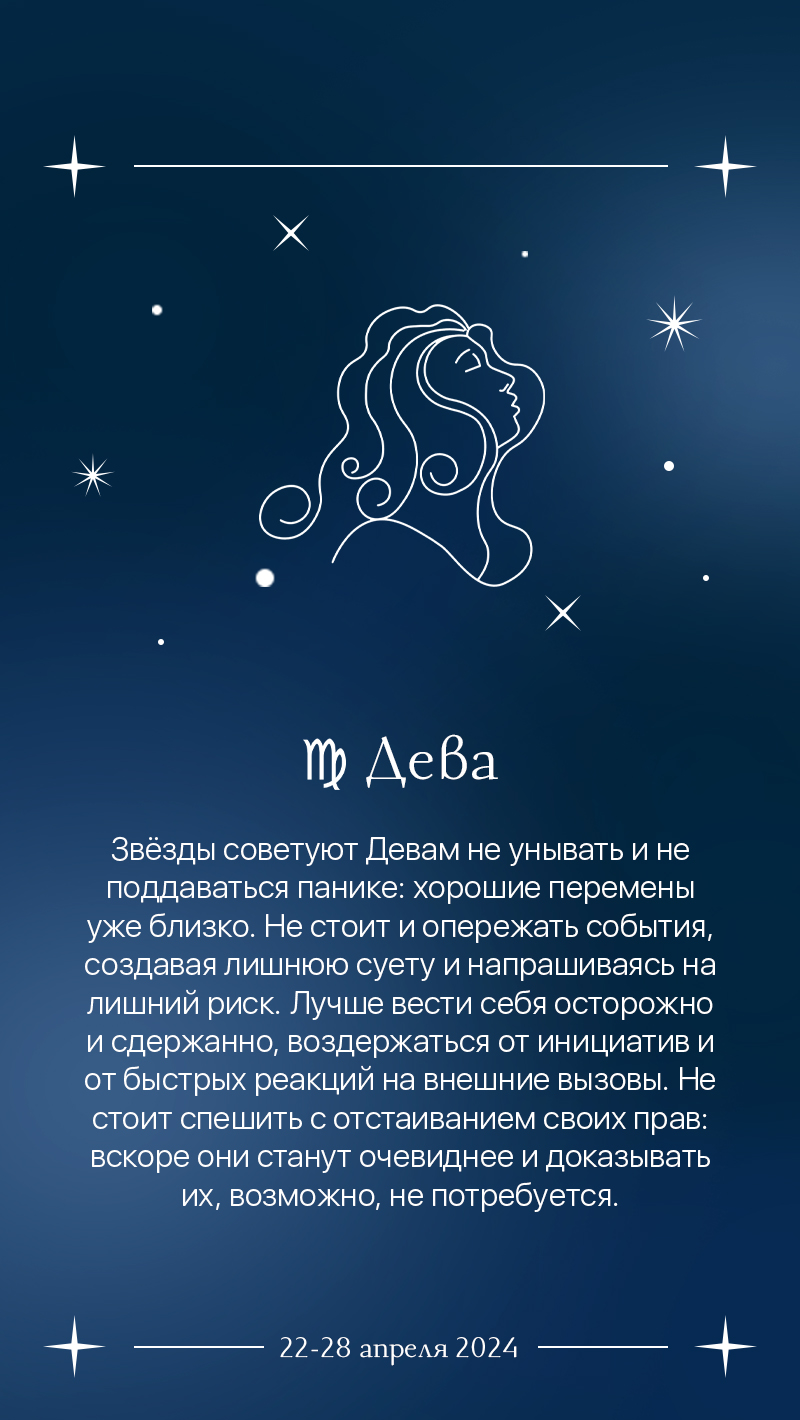
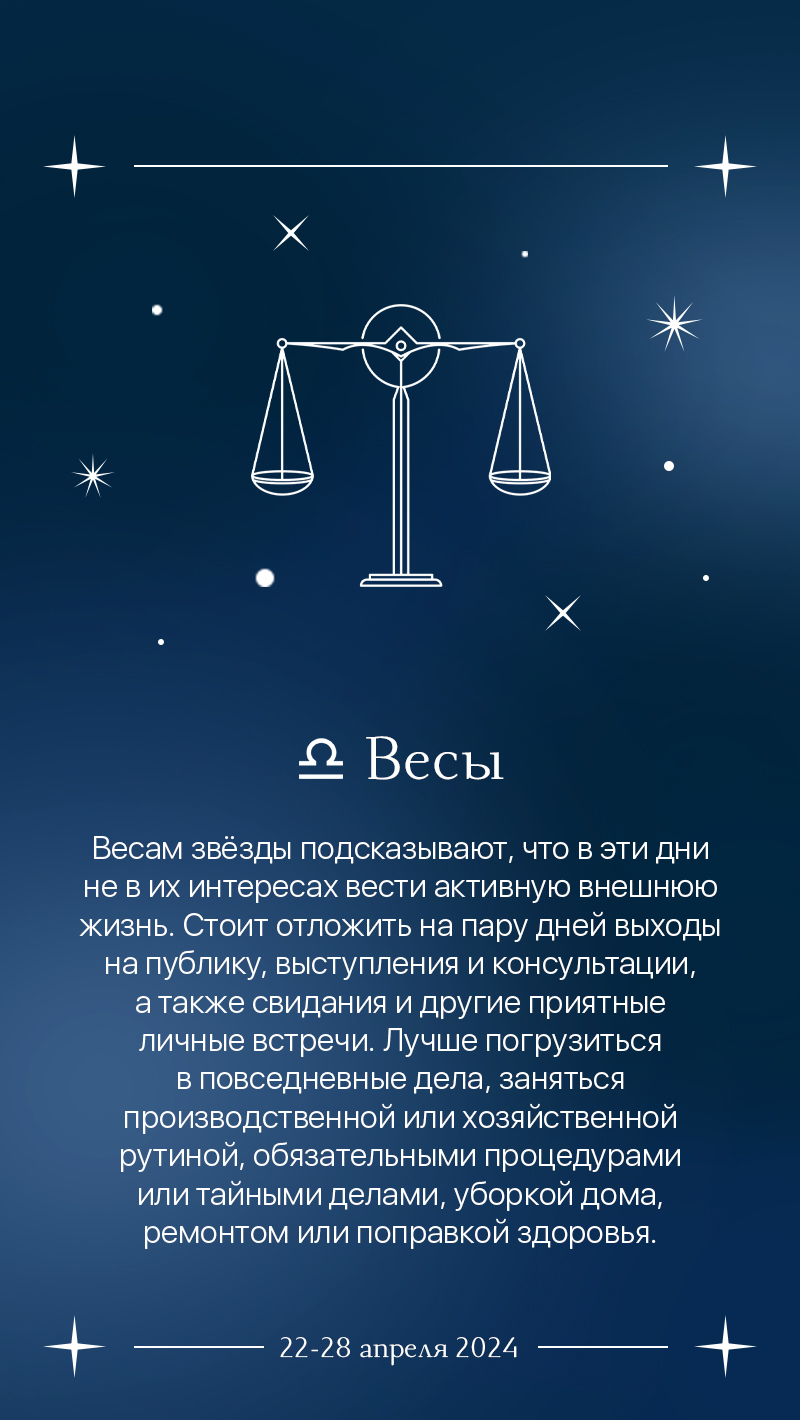
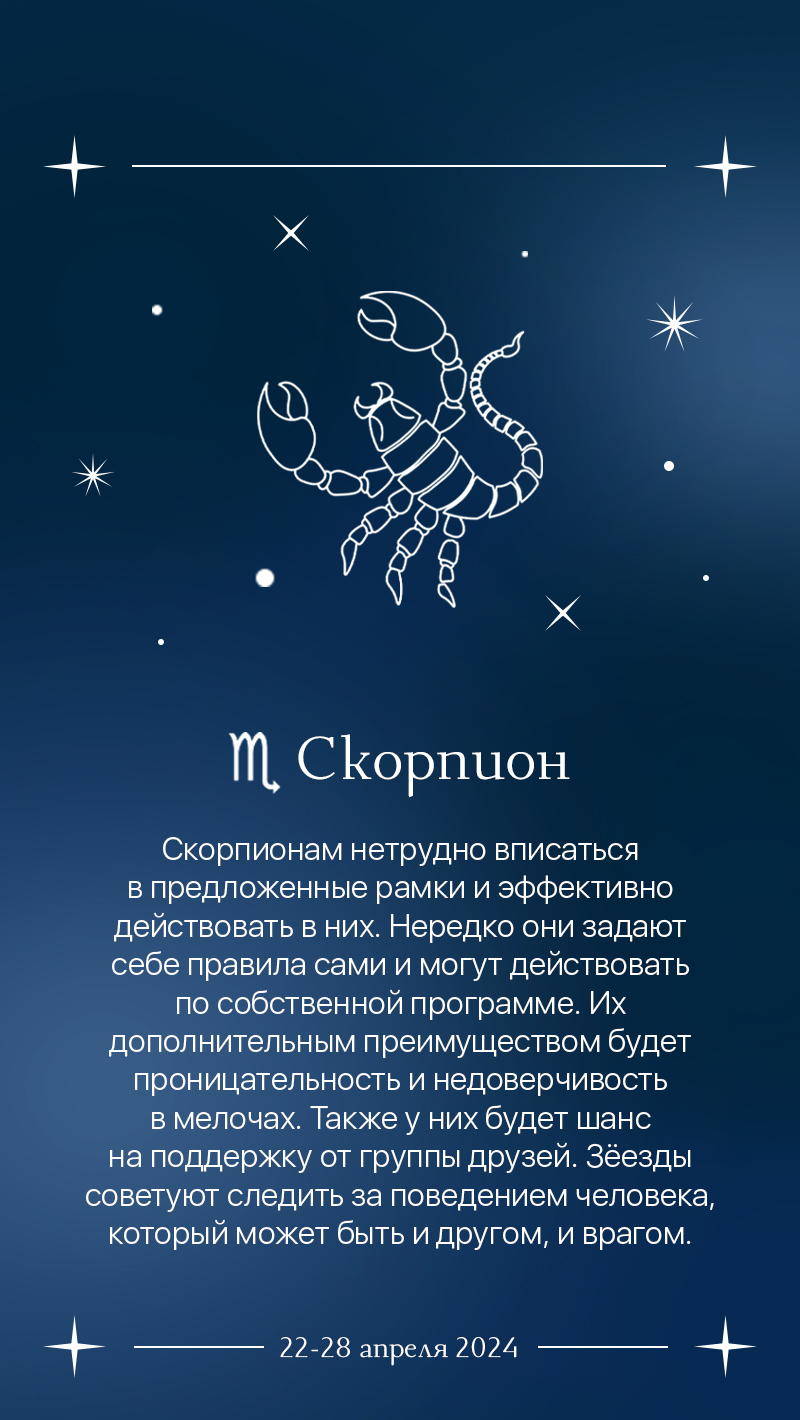
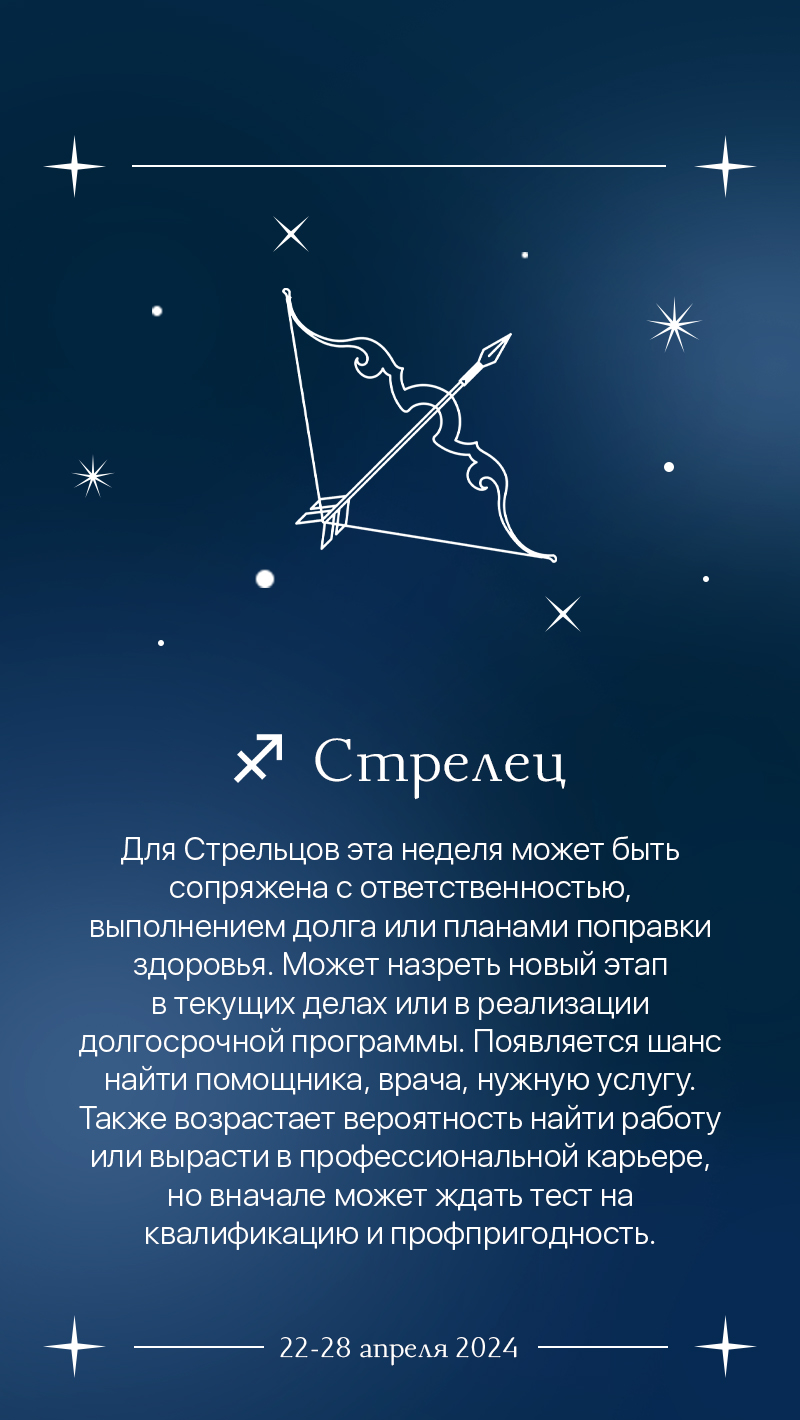
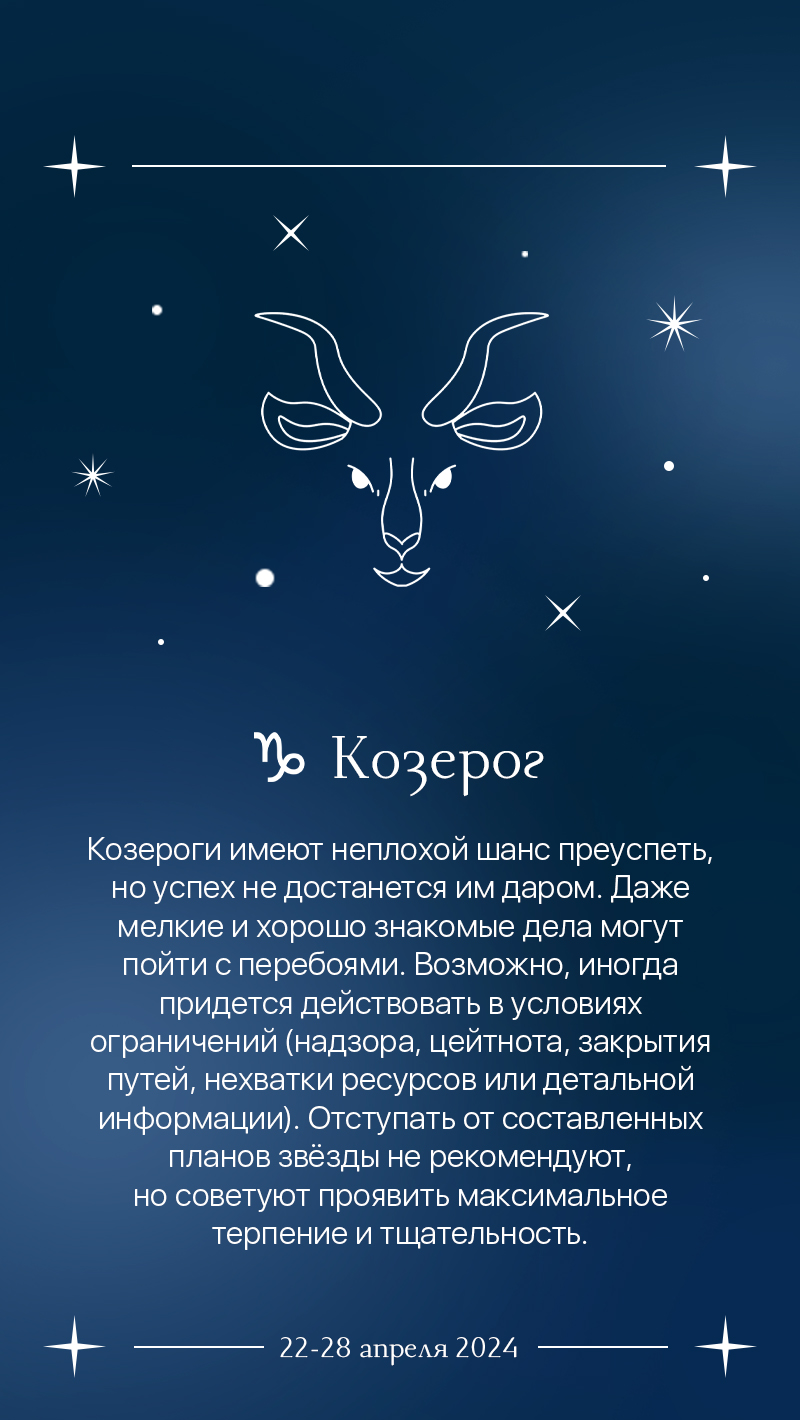
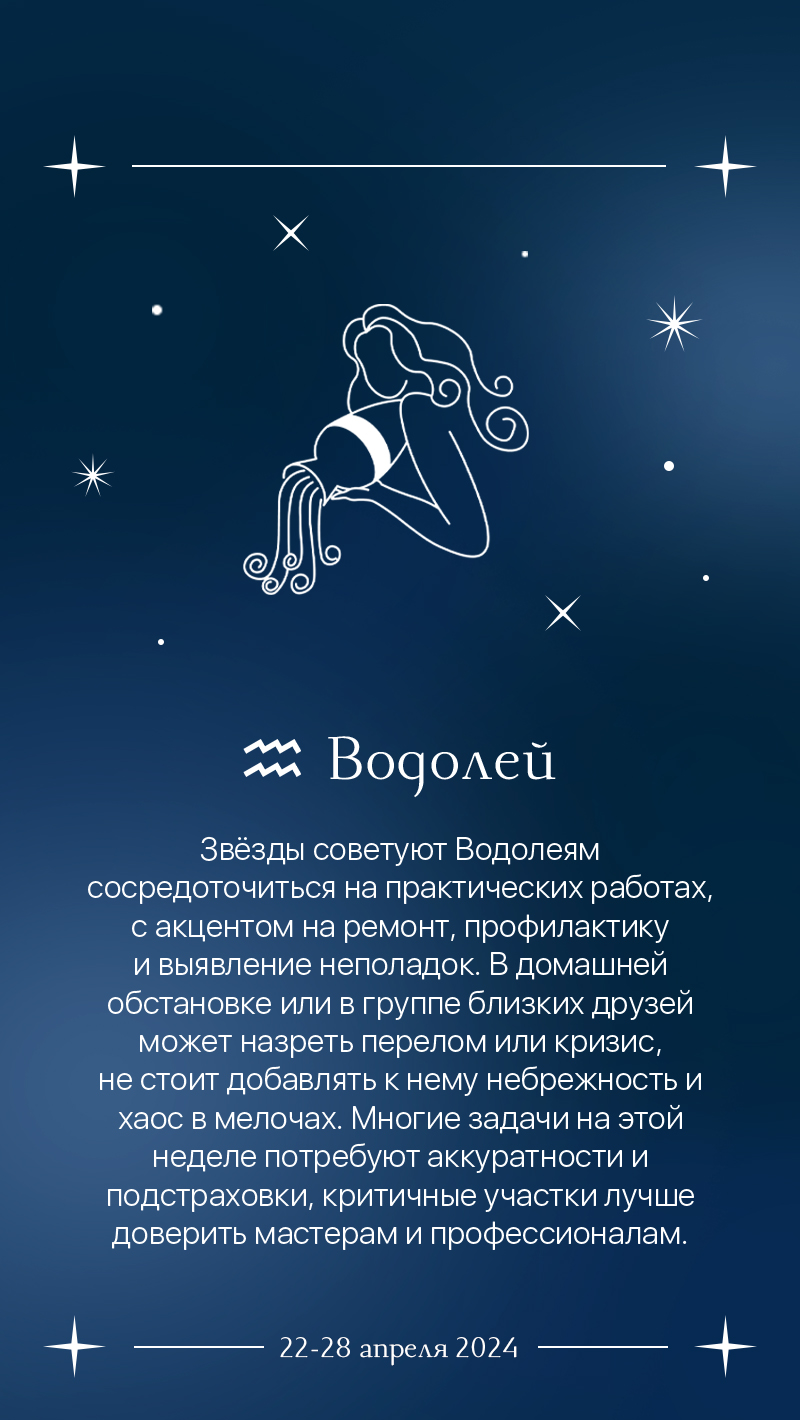
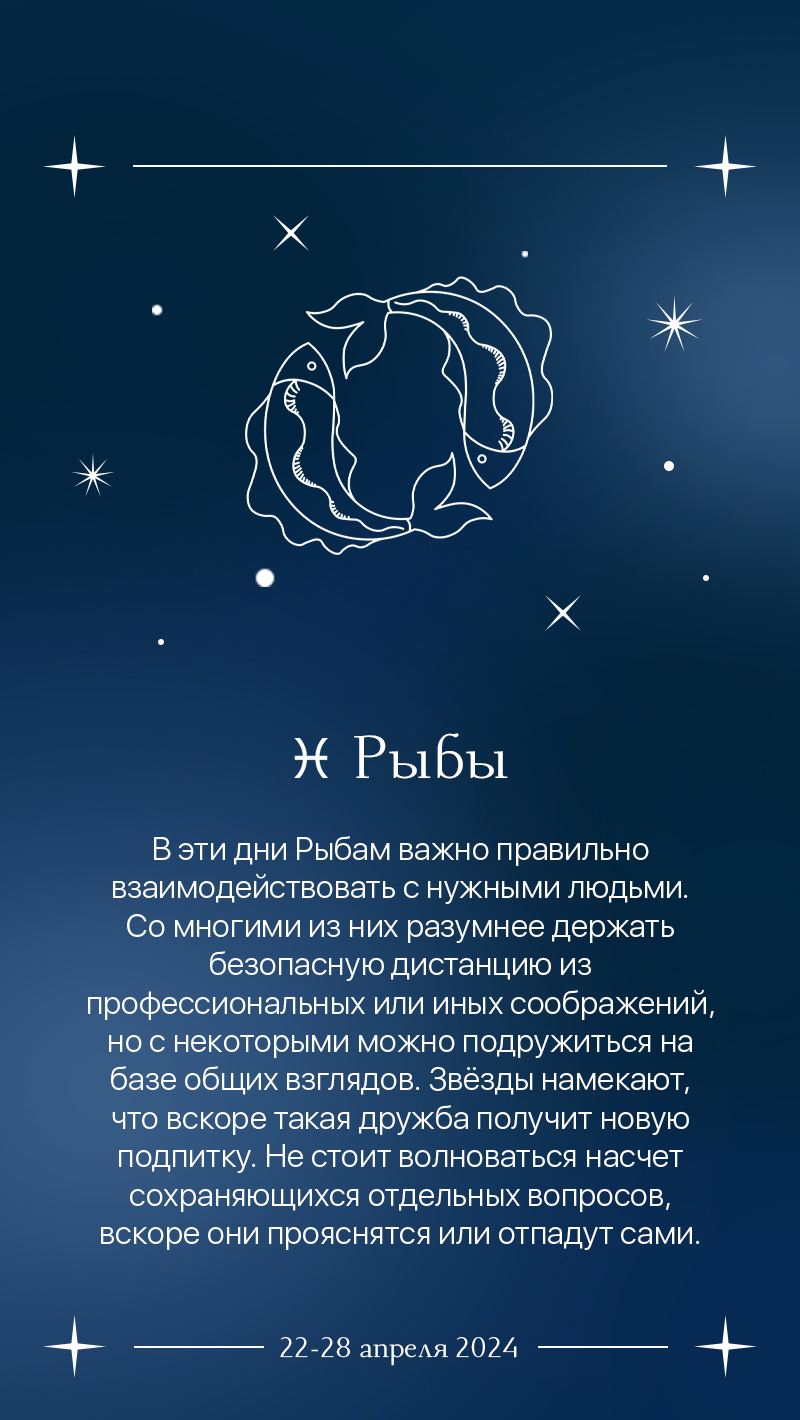

Ykt.Ru

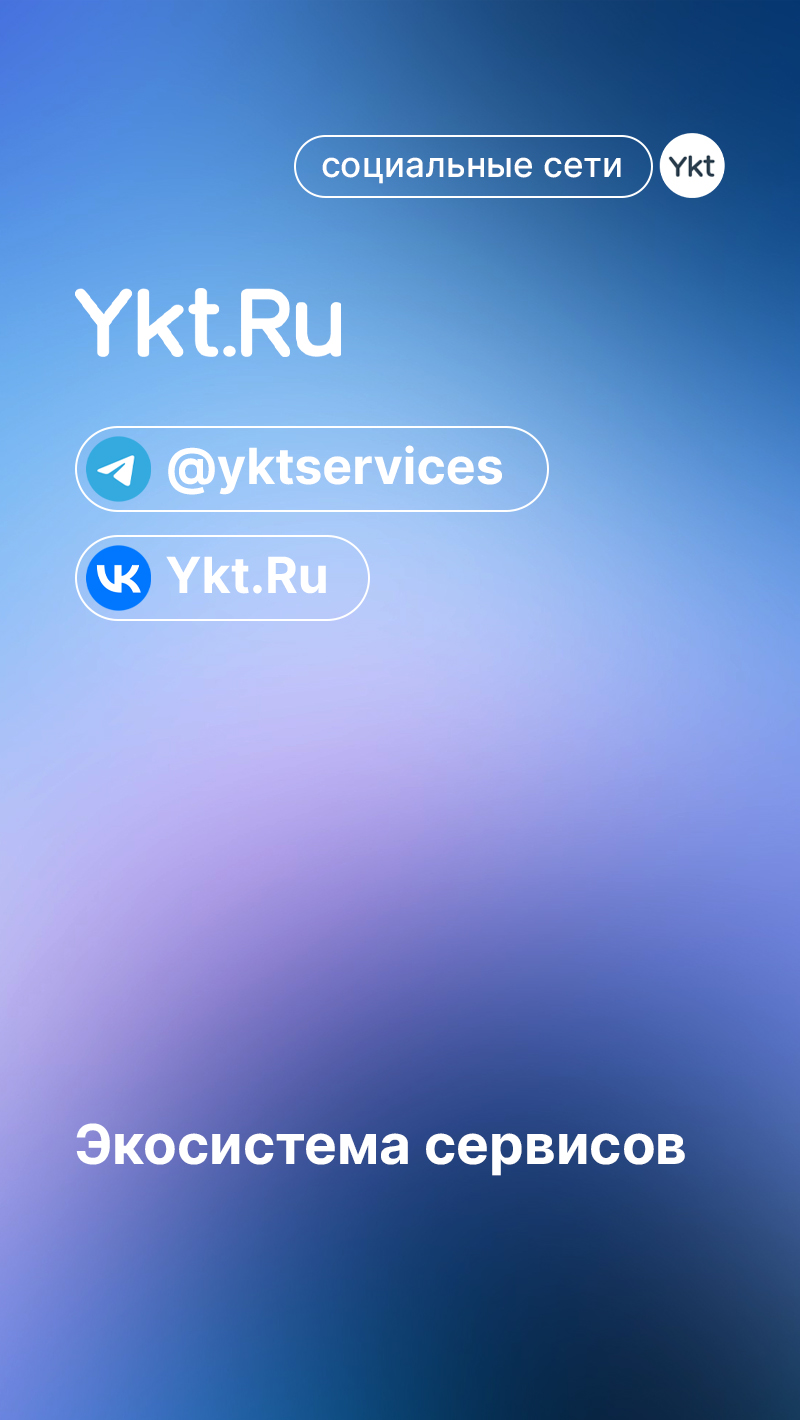
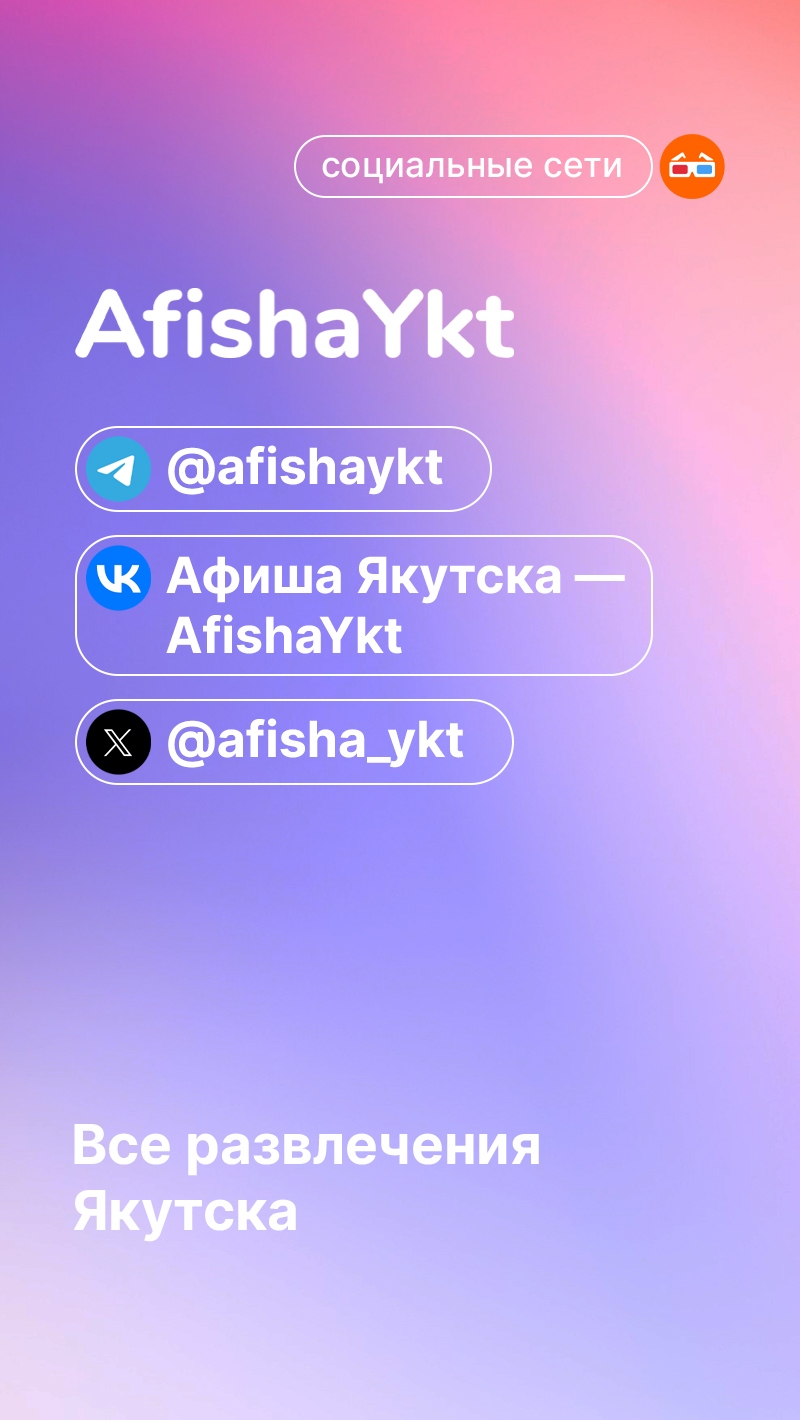




Наши социальные сети


Там, где танцуют стерхи
Семейная драма

Суворовец 1944
детский приключения военный

Астрал. Шепот мертвых
ужасы

Блиндаж
военный фантастика

Зло не существует
драма
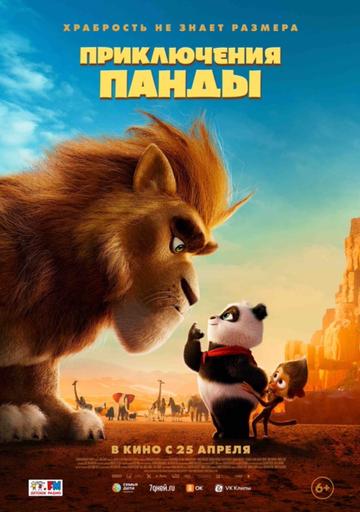
Приключения панды
анимация комедия

Меч короля
драма исторический

Карина
байопик детектив

Пушистые спасатели: Новая команда
анимация комедия семейный

Артур, ты король
приключения

"Там, где танцуют стерхи" (в русском дубляже)
Семейная драма

Всемирный потоп
фильм-катастрофа

Летучий корабль
приключения сказка романтика

Сто лет тому вперёд
приключения экшн
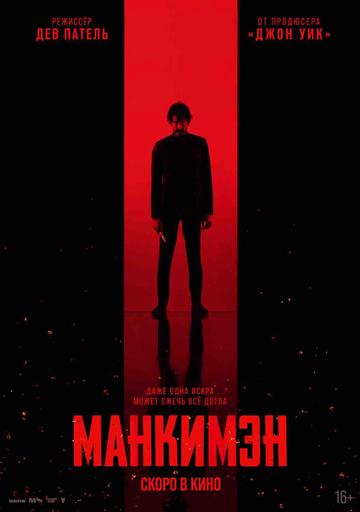
Манкимэн
экшн-триллер

Падение империи
фильм-катастрофа фантастика
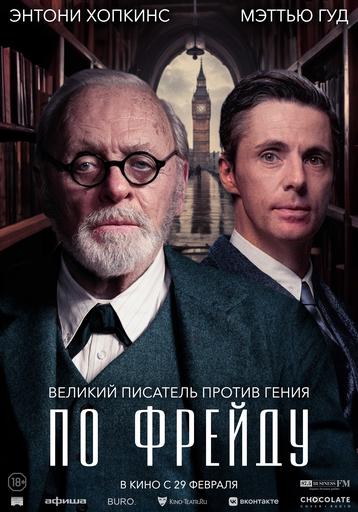
По Фрейду
драма

Город тайн: Исчезнувшая
триллер

Паутина страха
хоррор

Идеальная зависимость
мелодрама

Планета Kids
семейный развлекательный центр
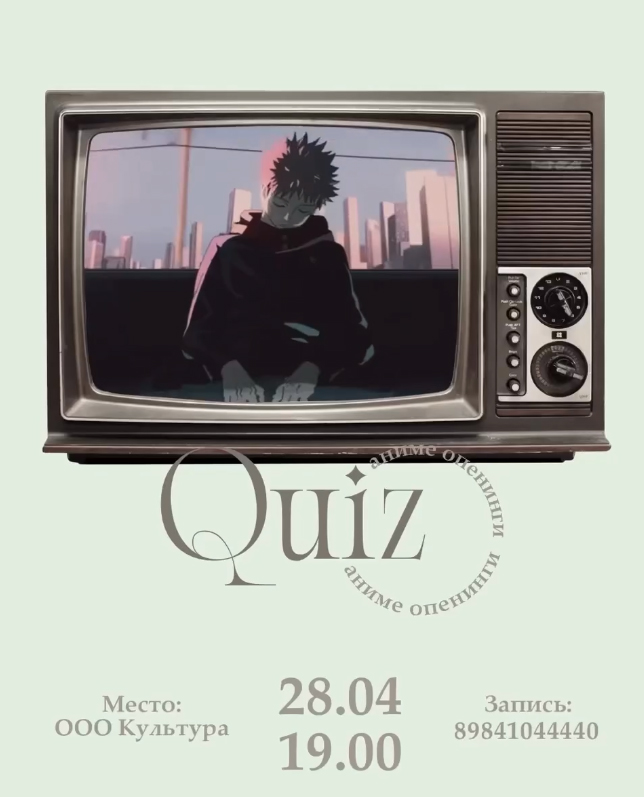
Аниме опенинги
квиз

БОЛЬШОЙ СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ЭЛЛАИ
концерт

JEADA - Мин Таптыыр Ырыаларым
акустический концерт

Дети белого солнца
этнобалет

День Республики Саха (Якутия)
праздничная программа

Горжусь своей профессией
юбилейный вечер Клавдии Охотиной

Дьол уйата – дьиэ кэргэн
музыкально-танцевальное шоу.

ВЕНЕЦИЯ ВСТРЕЧАЕТСЯ С ЯКУТСКОМ
концерт

Шедевры мирового искусства
квиз-игра

I'MOMS
праздничный квиз

КВИЗ #1 "На логику"
для новичков

Лэгэнтэй | КРЫША
праздничный концерт

Музыкальный НОН-СТОП
квиз
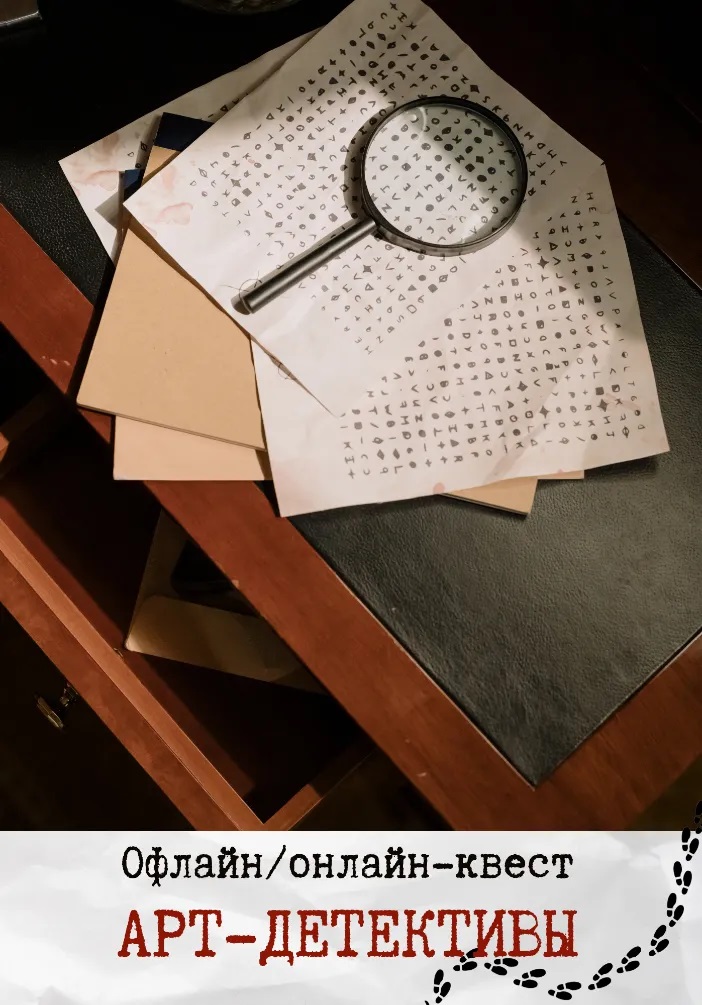
Арт-детективы
квест

Ролевая игра Мафия
тренинг-игра

Дело #61 «Аноним»
Detective-party
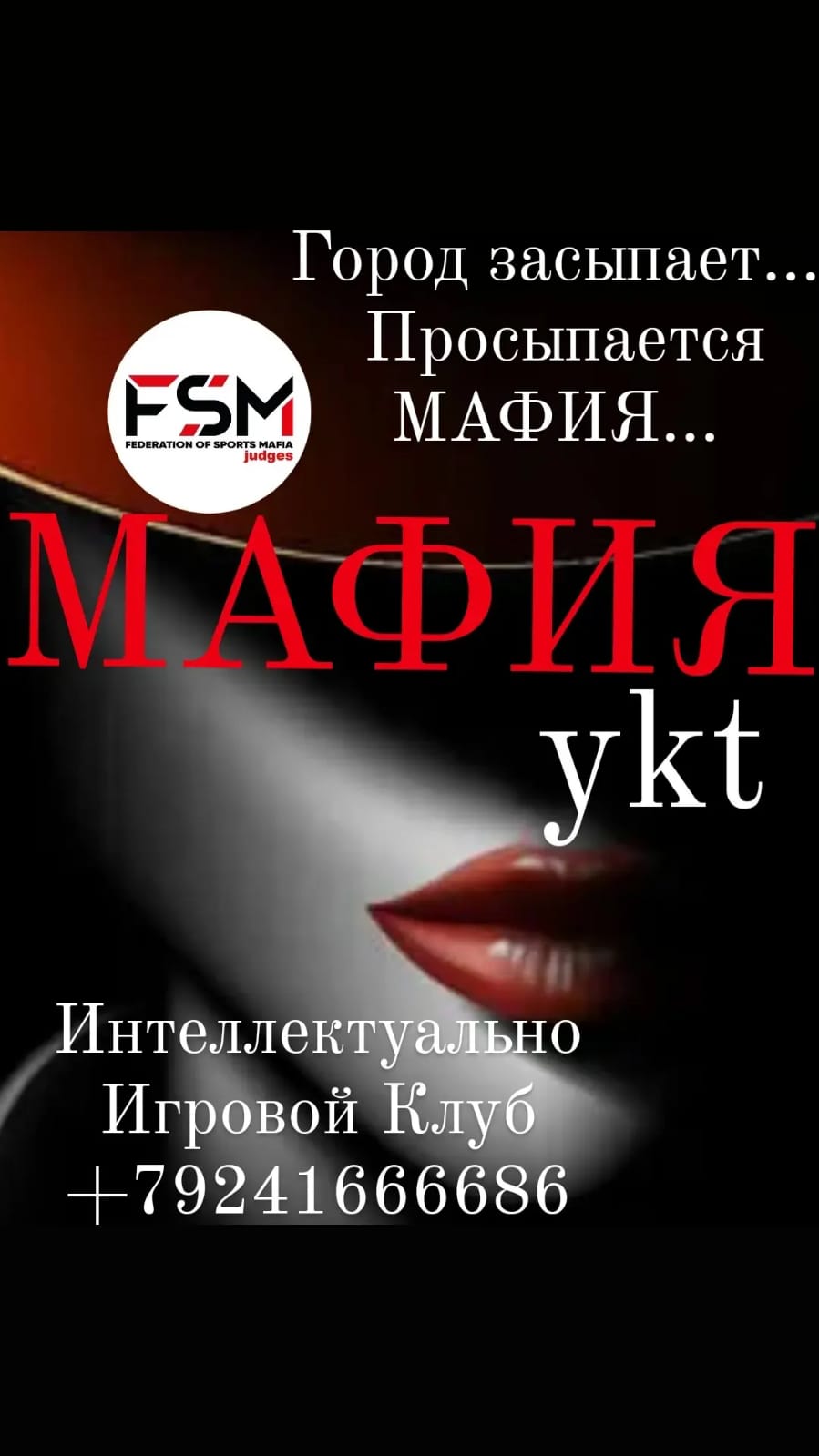
МАФИЯ ykt
игра в мафию

BIRTHDAY DJ SETS | HILLS
вечеринки
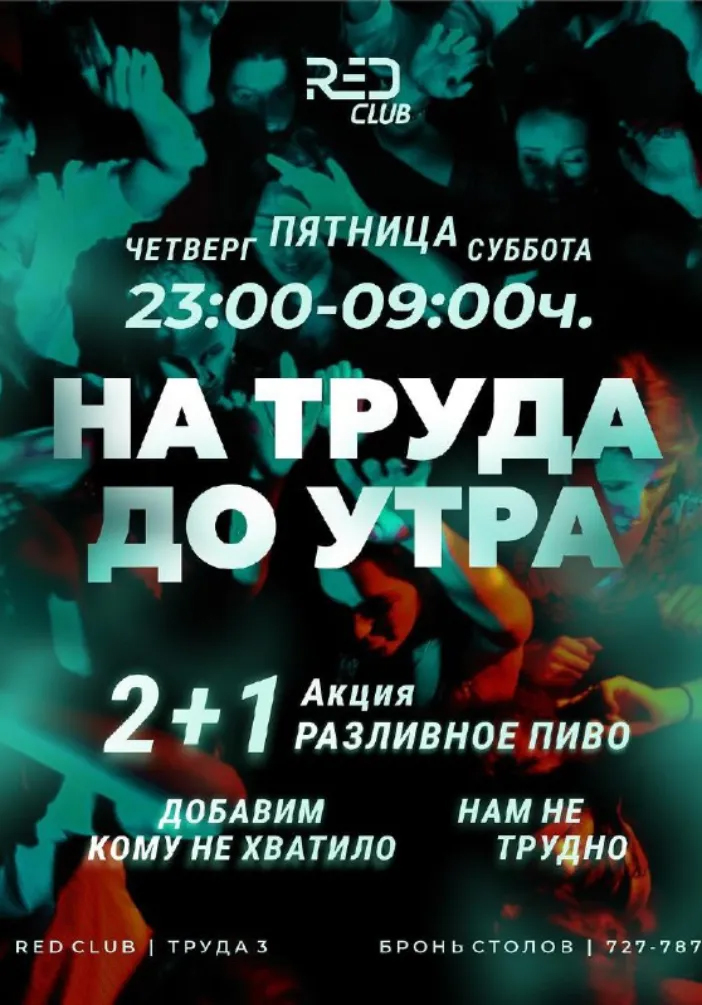
На Труда до утра | Red Club
вечеринки

Танцпол | Кабан
дискотека

SHOW CASE | Рыдзинский
вечеринка
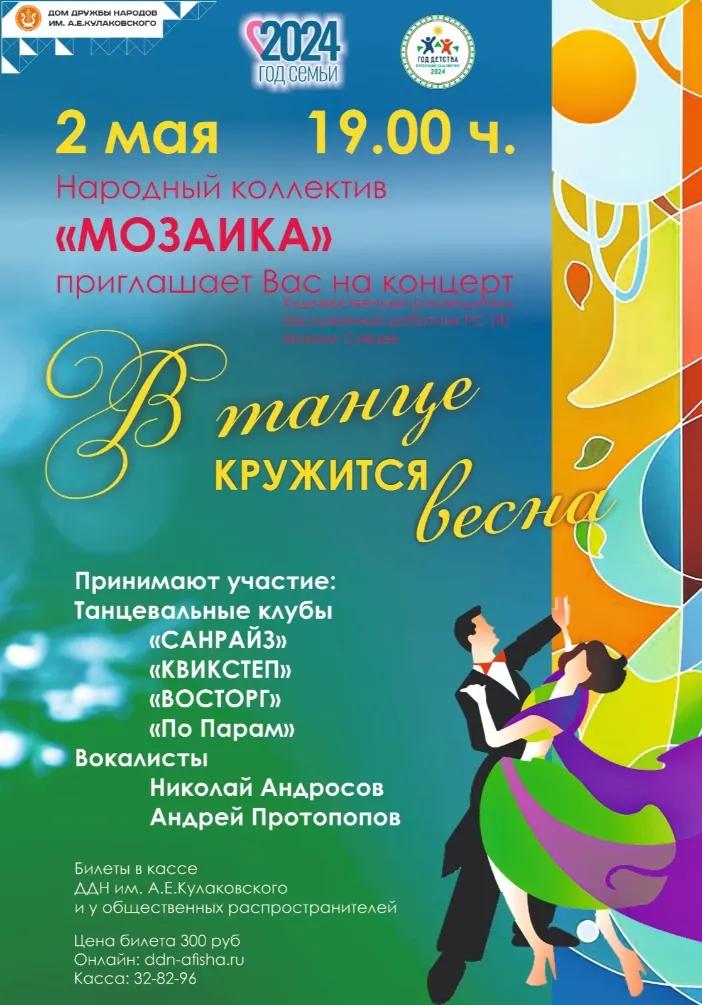
В танце кружится весна
концерт
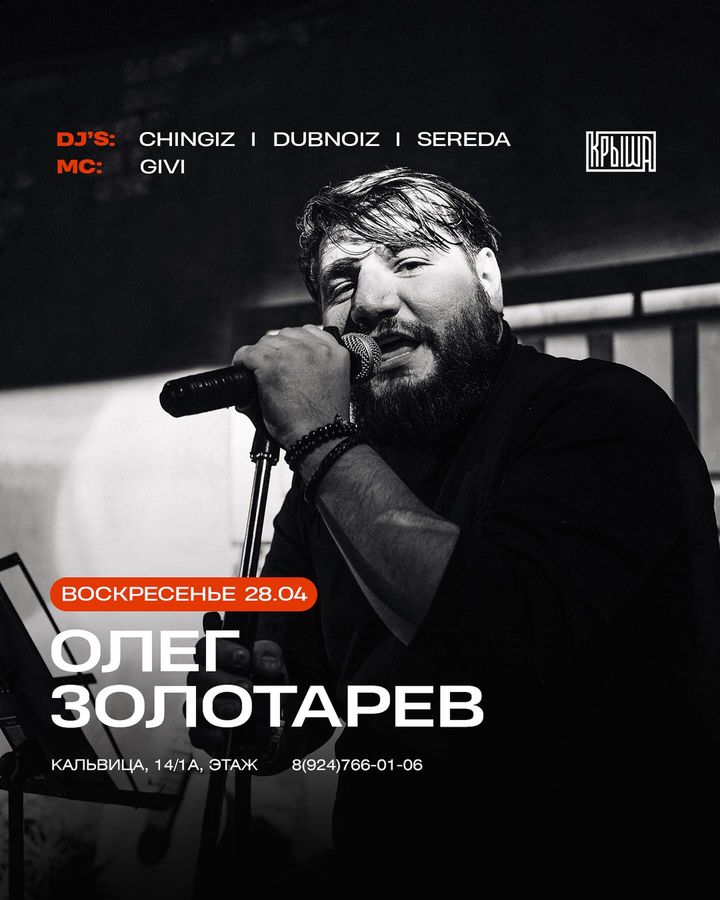
Олег Золотарев | КРЫША
музыкальный вечер

SHASHLYK PARTY | KYTAI GOROD
вечеринка
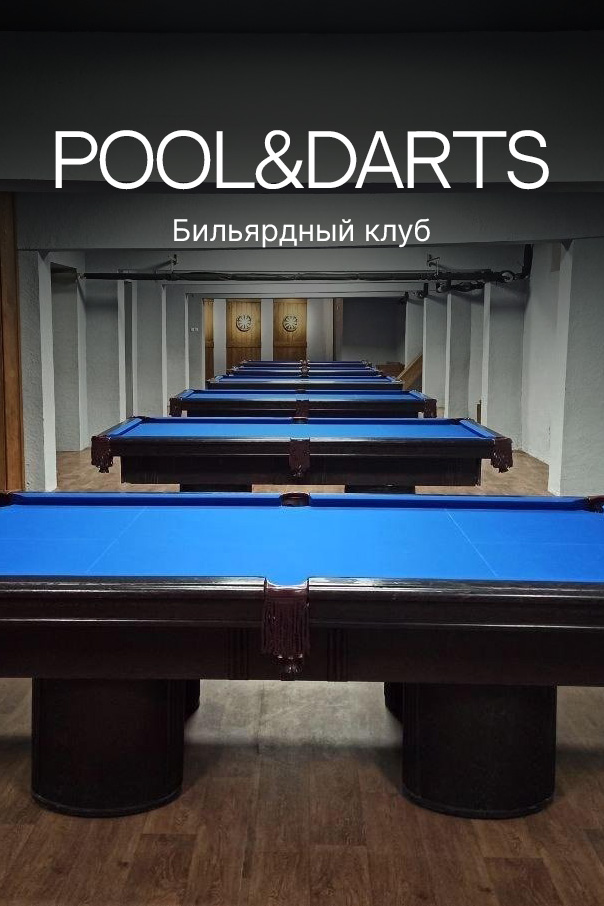
Pool&darts
бильярдный клуб

Алитет хайаҕа күрүүр
спектакль

Бүгүн эбэтэр хаһан да...
спектакль

Гастрономический театр "ОРТО ДОЙДУ"
гастротеатр в 3-х действиях

Подвиг
спектакль
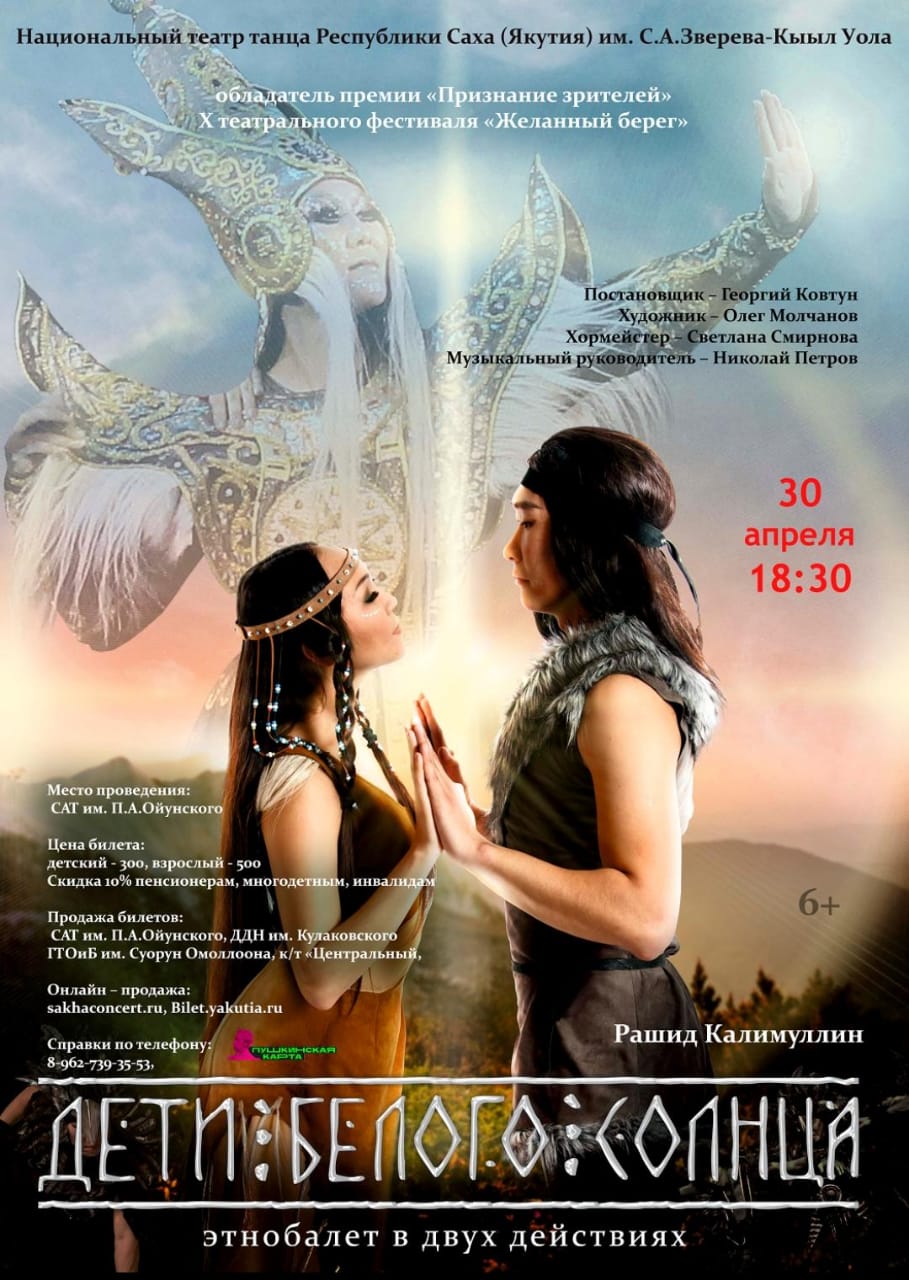
Дети белого солнца
этнобалет

Малыш и Карлсон
музыкальная сказка для детей и взрослых, 1ч 10мин.
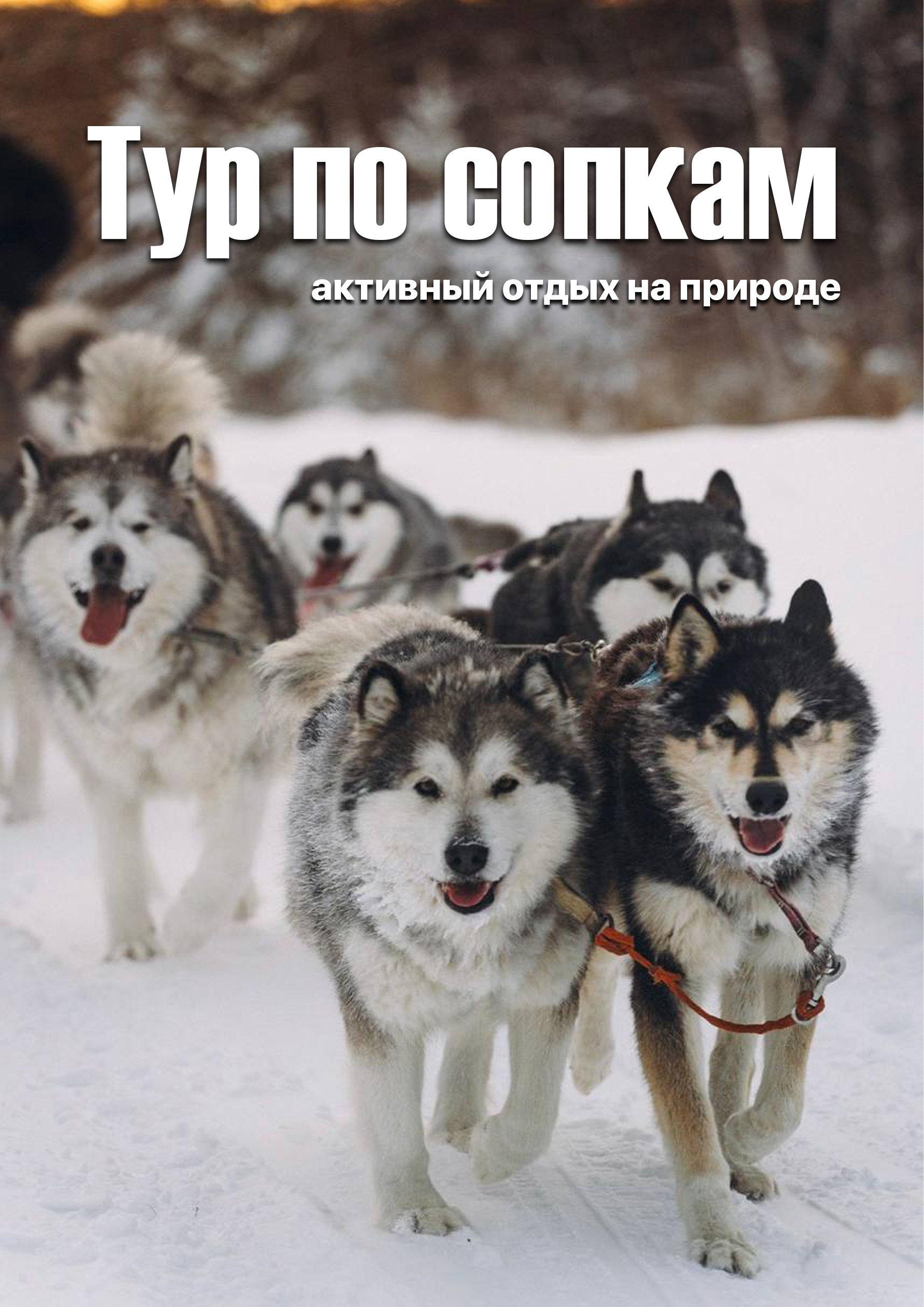
Тур по сопкам
активный отдых
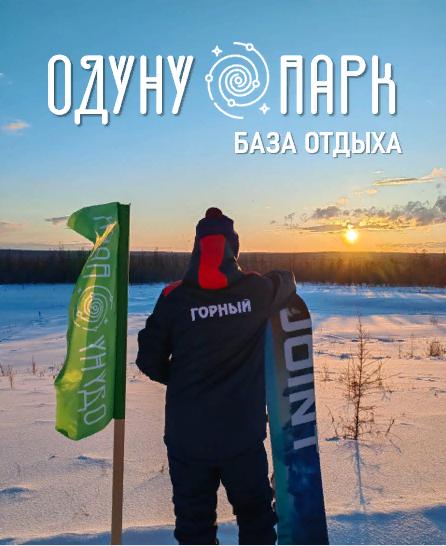
База отдыха "Одуну Парк"
горнолыжная база
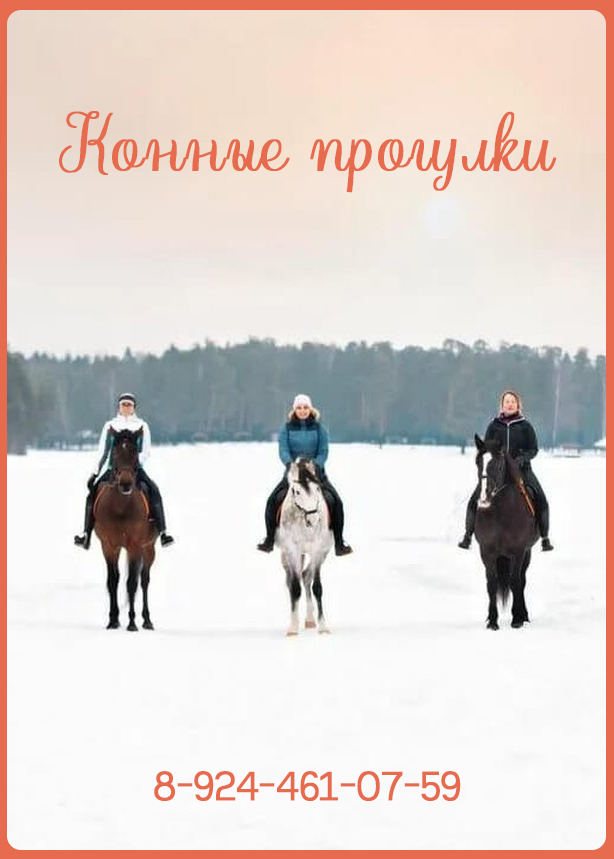
Конные прогулки
активный отдых
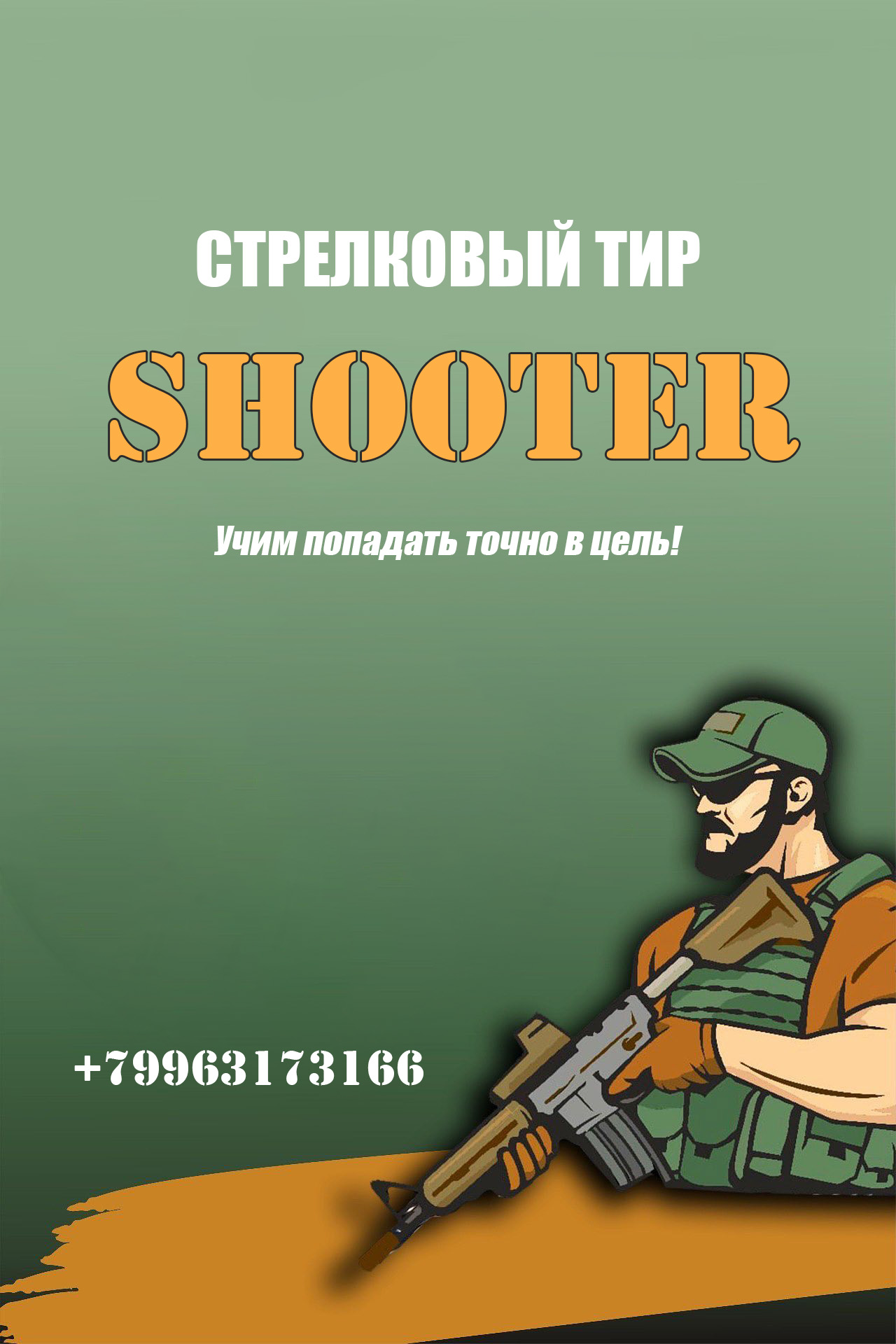
Shooter
современный пневматический тир

BIG LIVE | ICON
концерт-вечеринка
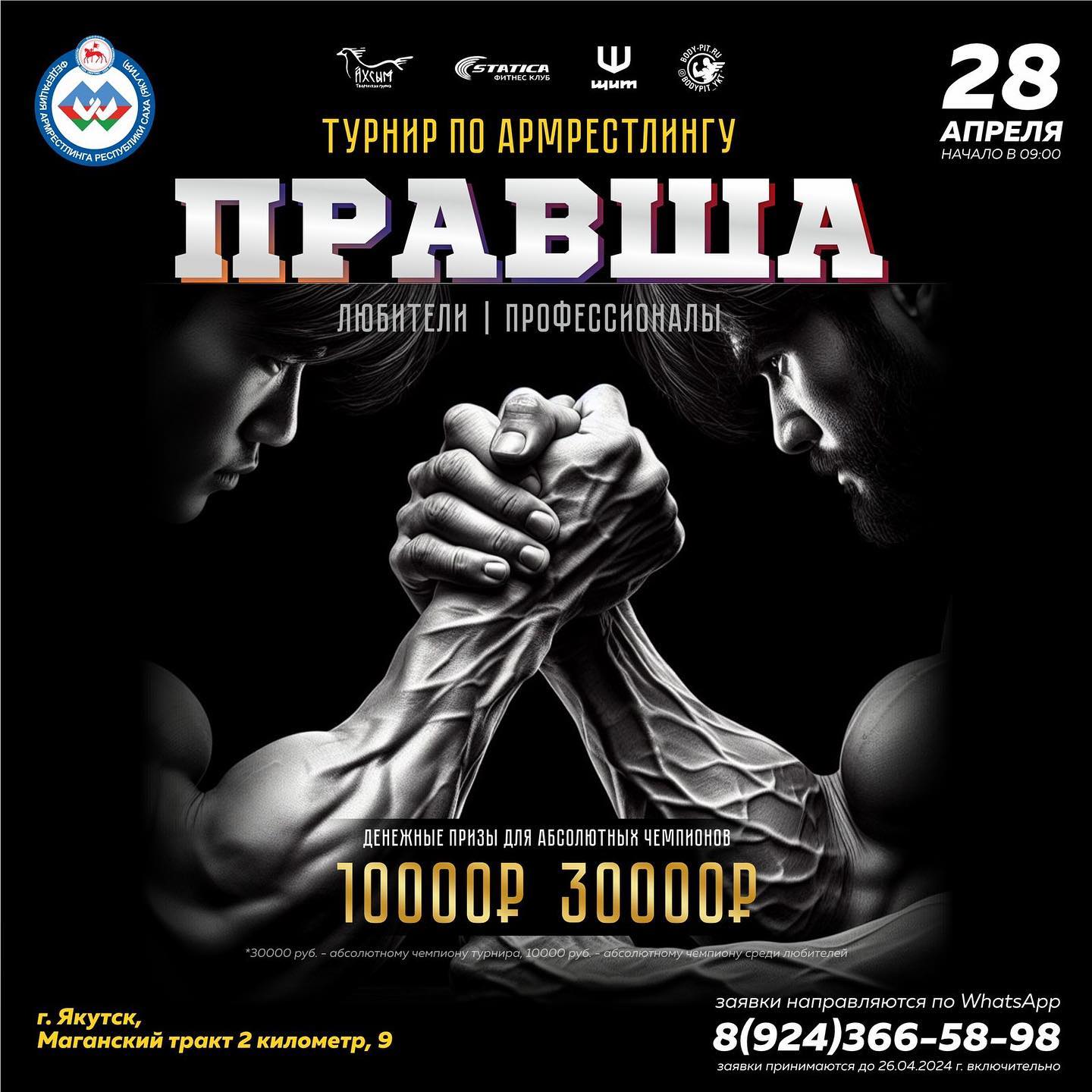
Правша
турнир по армрестлингу
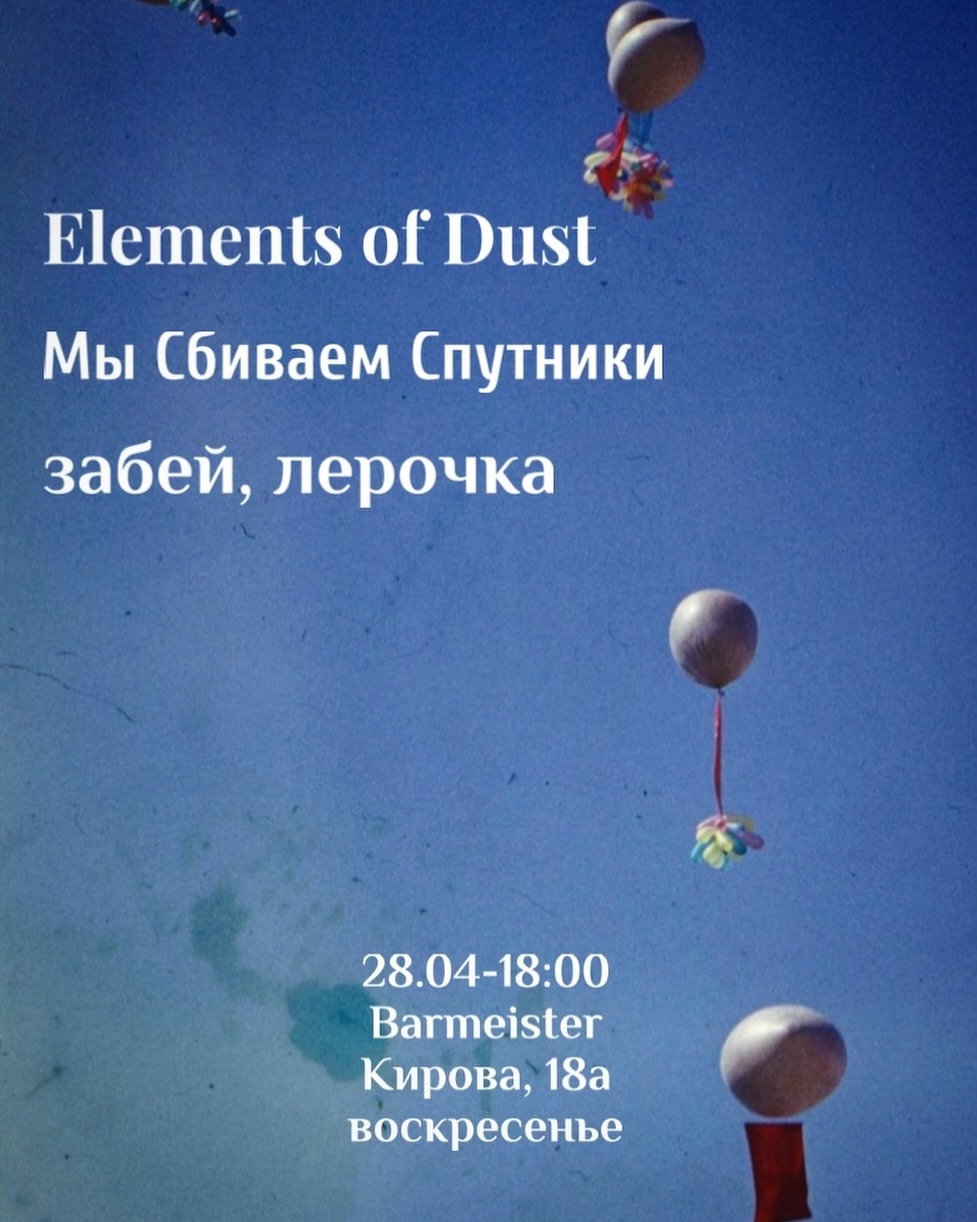
Elements of Dust | Мы Сбиваем Спутники | забей, лерочка
сольный концерт
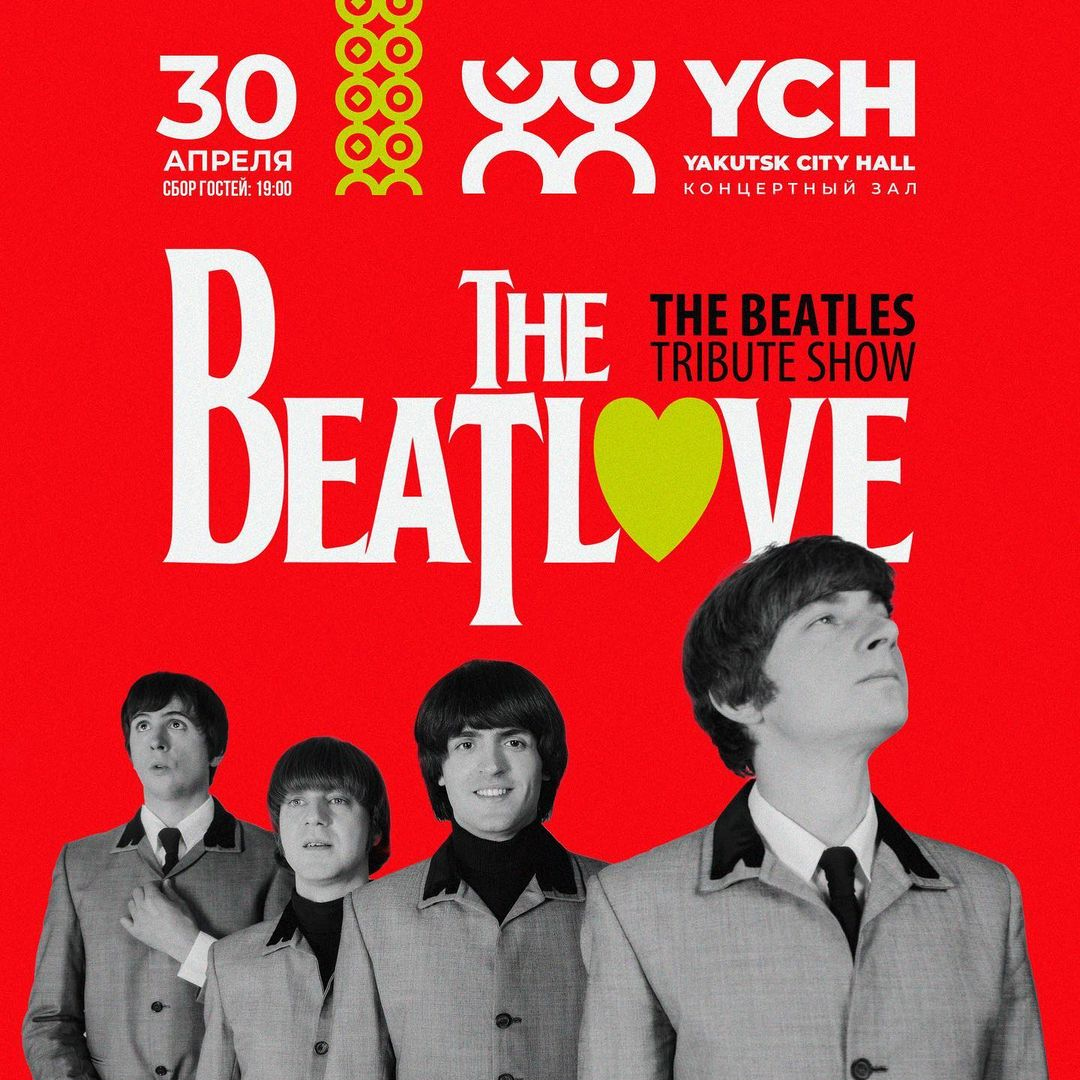
The BeatLove
трибьют-шоу

BIRTHDAY PARTY HILLS
музыкальный вечер, вечеринка

Атриум | Hills
музыкальный вечер, вечеринка
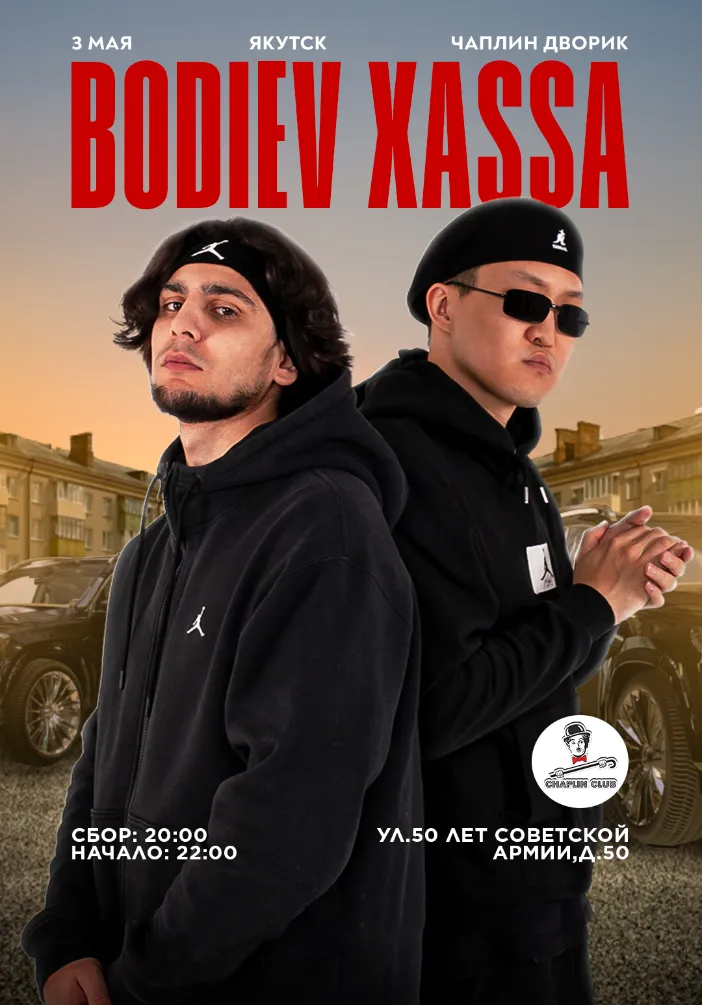
BODIEV х XASSA
совместный концерт

LISITSA band | Red & Green
музыкальный вечер

Творческая встреча с Дмитрием Артемьевым
творческая встреча

Андрей Храмов | NONAME | КРЫША
эксклюзивный концерт

Майский марафон
дискотека 70-х, 80-х, 90-х

ICON WEEKLY LINE-UP
вечеринка
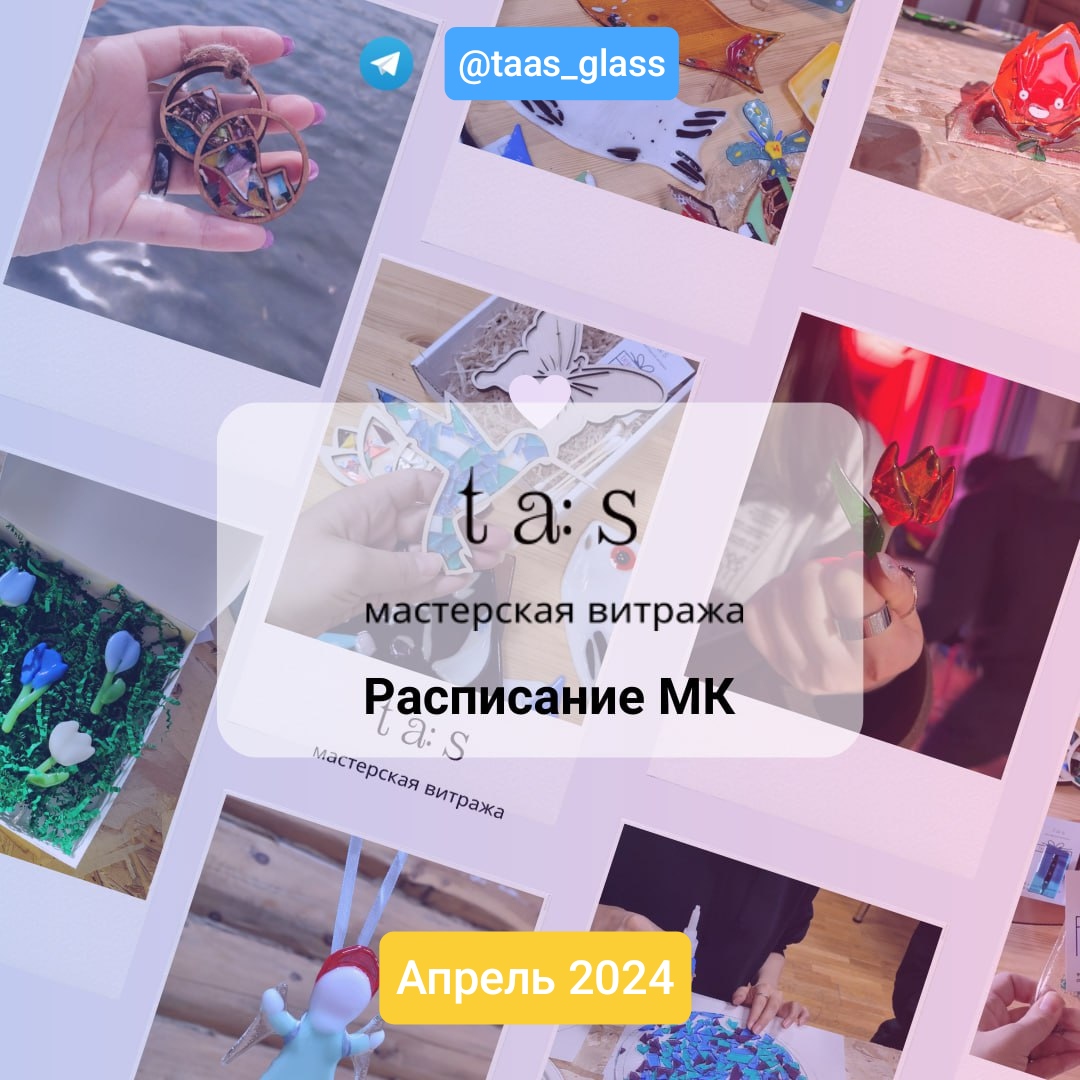
Мастер-класс по фьюзингу
Делаем изделия из стекла

Мастерская художника «Арт Холл»
живопись акрилом

Игра на хомусе
мастер-класс

Python для начинающих
курс для взрослых

Дом Музыкантов
обучение

Сахалыы минньигэс
мастер-класс

Пасхальная корзинка: кулич и покраска яиц
мастер-класс
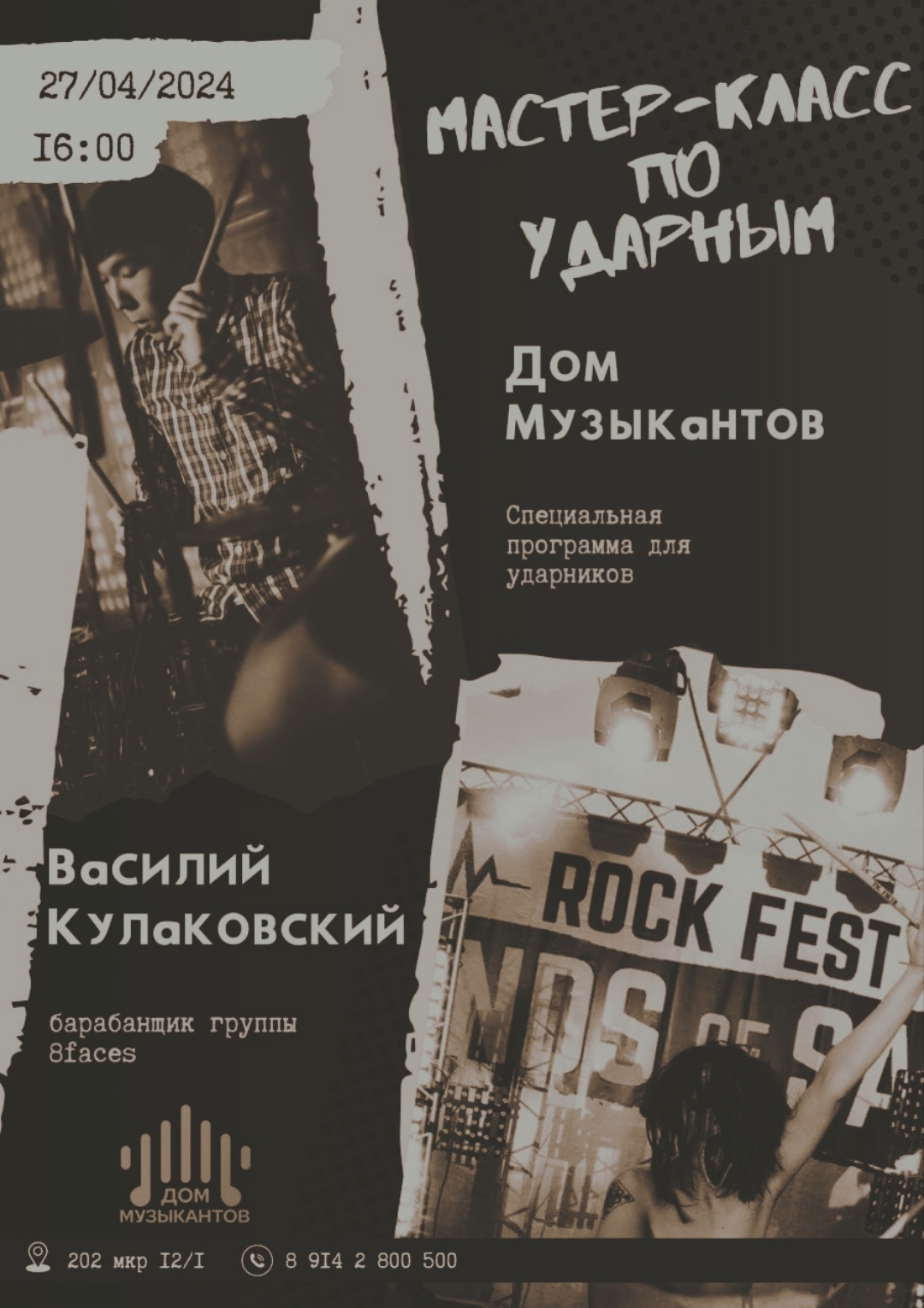
Мастер-класс по ударным
обучение
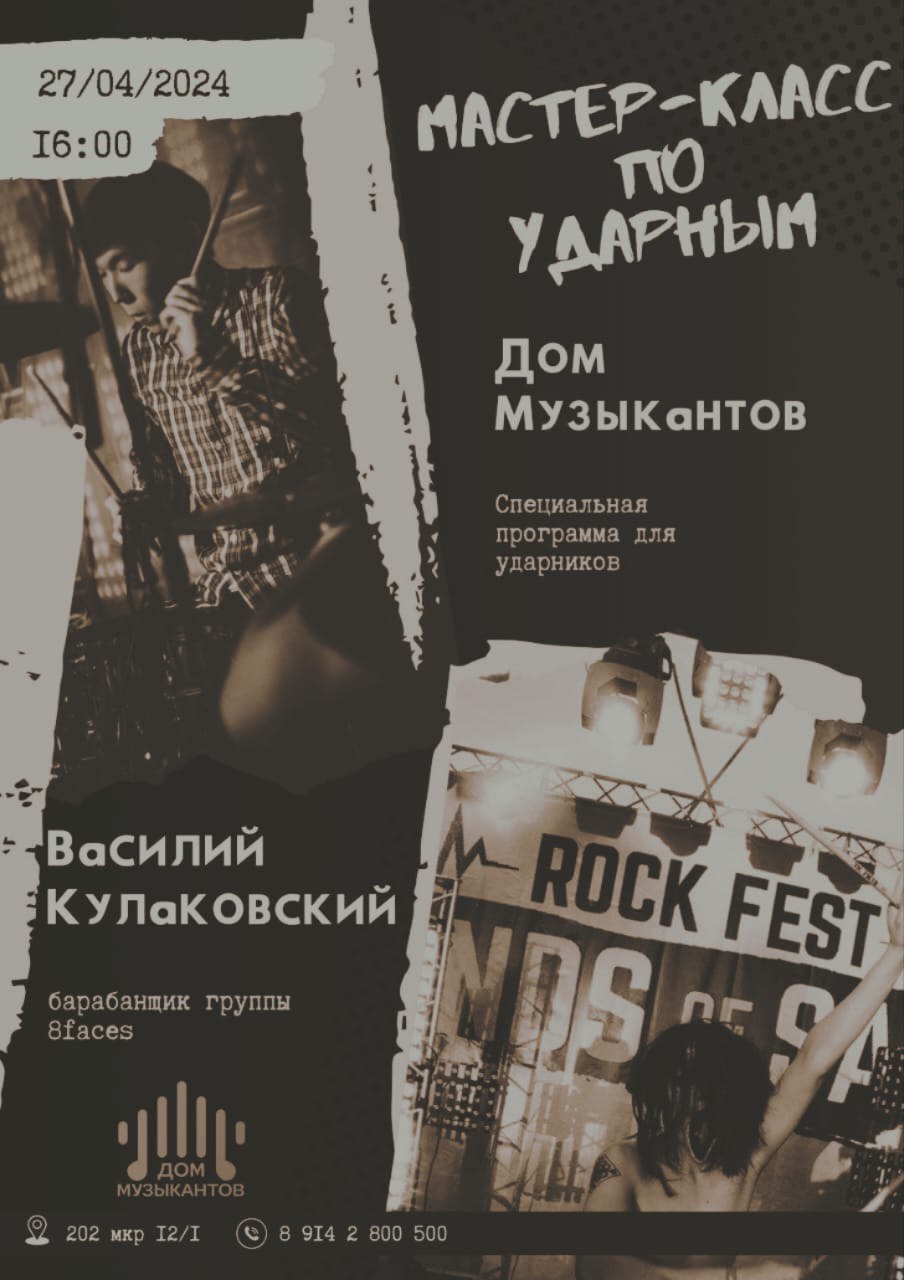
Мастер-класс по ударным
мастер-класс

Скетч-встреча
арт-встреча

Приготовление стейков
мастер-класс

Рисование на ткани «Крафтastic»
мастер-класс
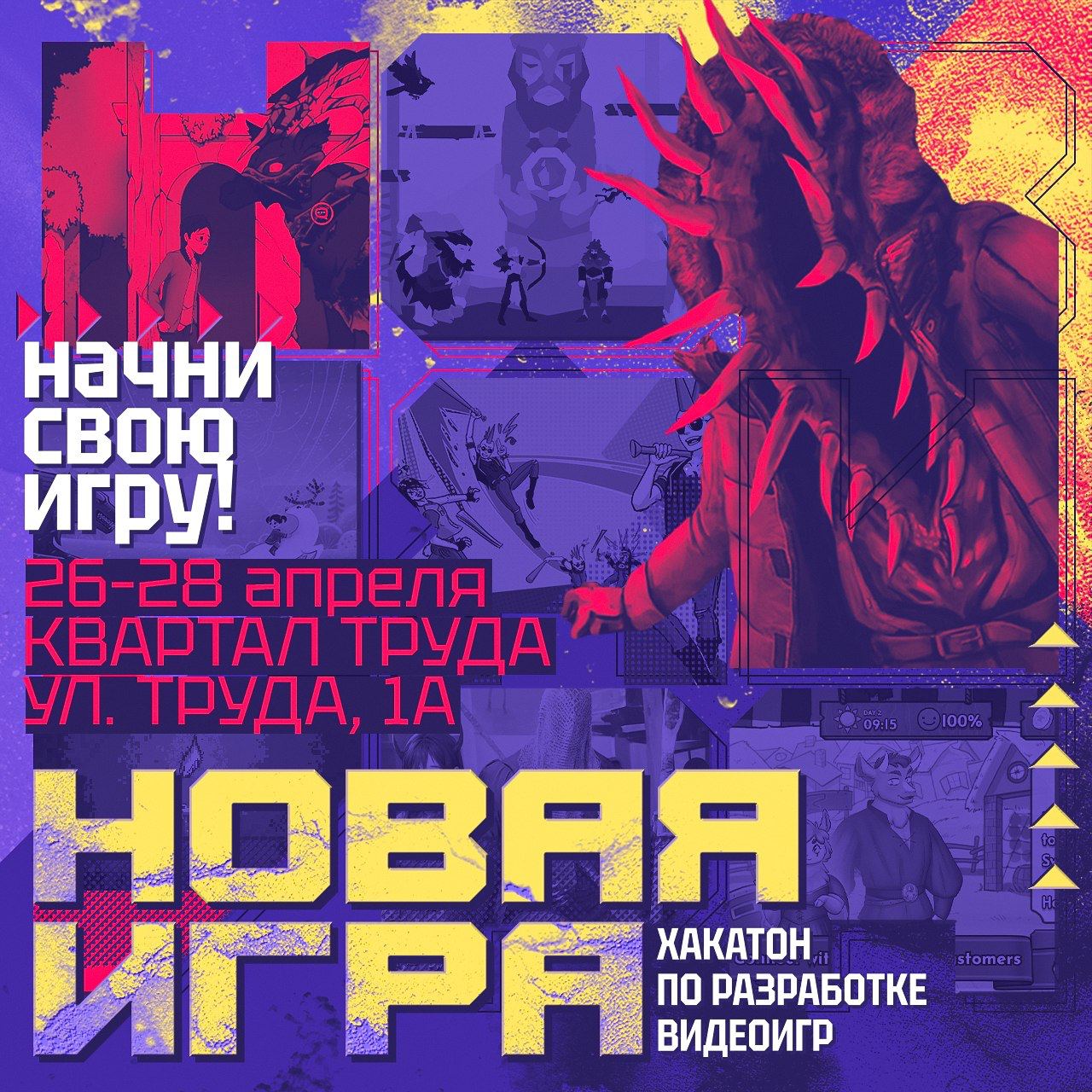
НОВАЯ ИГРА
хакатон по разработке видеоигр
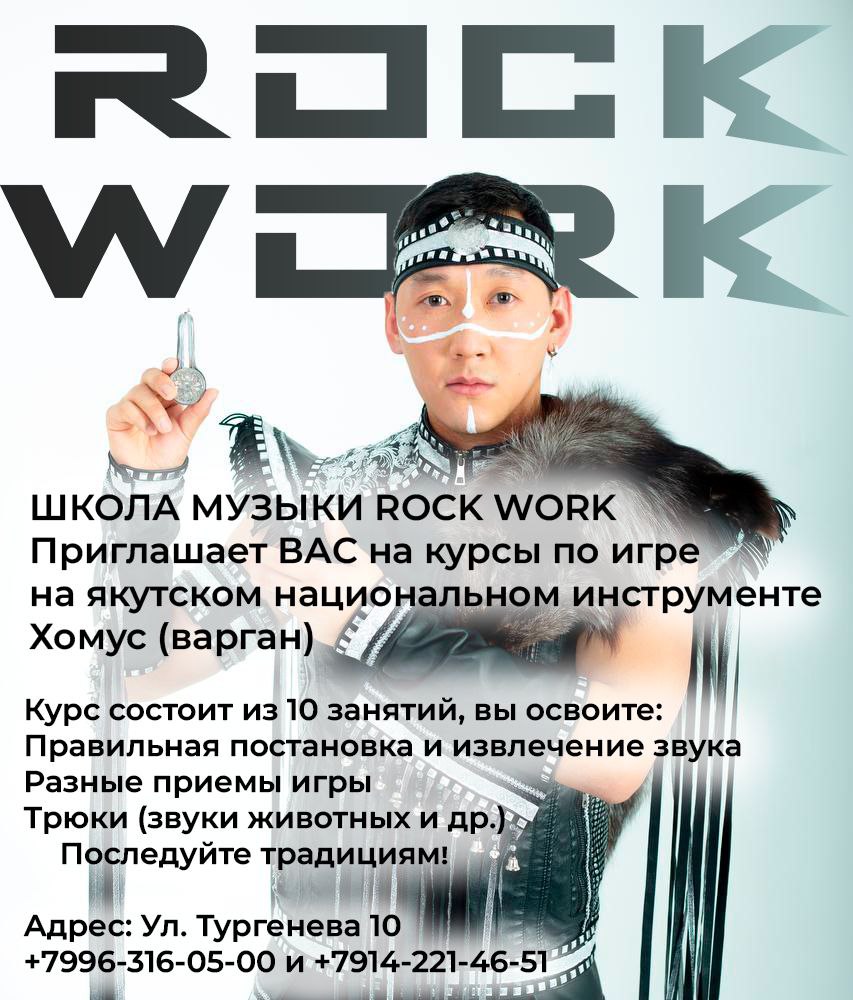
Курсы по игре на Хомусе
музыкальные курсы, 10 дней
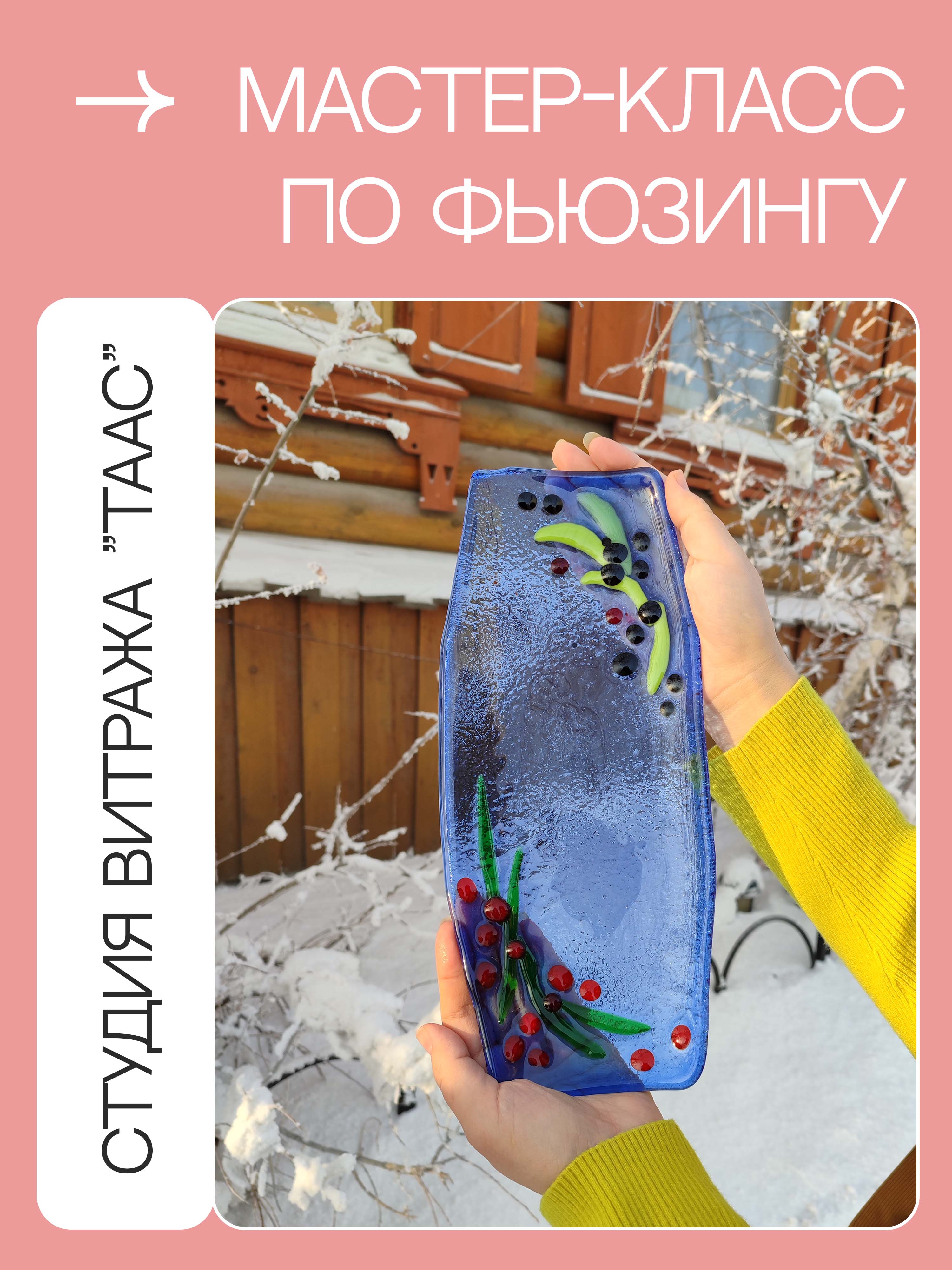
Мастер-класс по фьюзингу
делаем тарелку из стекла

Рисуем мечту
мастер-класс
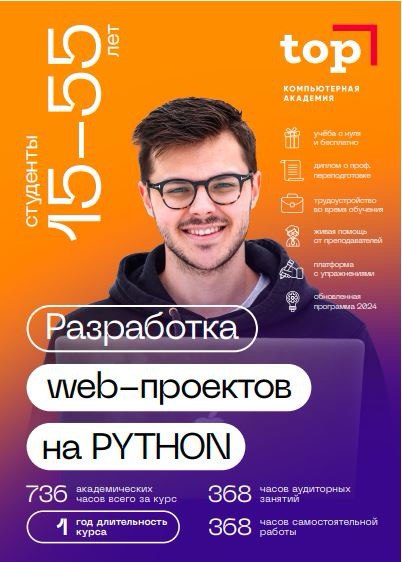
Разработка web-проектов на Python
годичные курсы
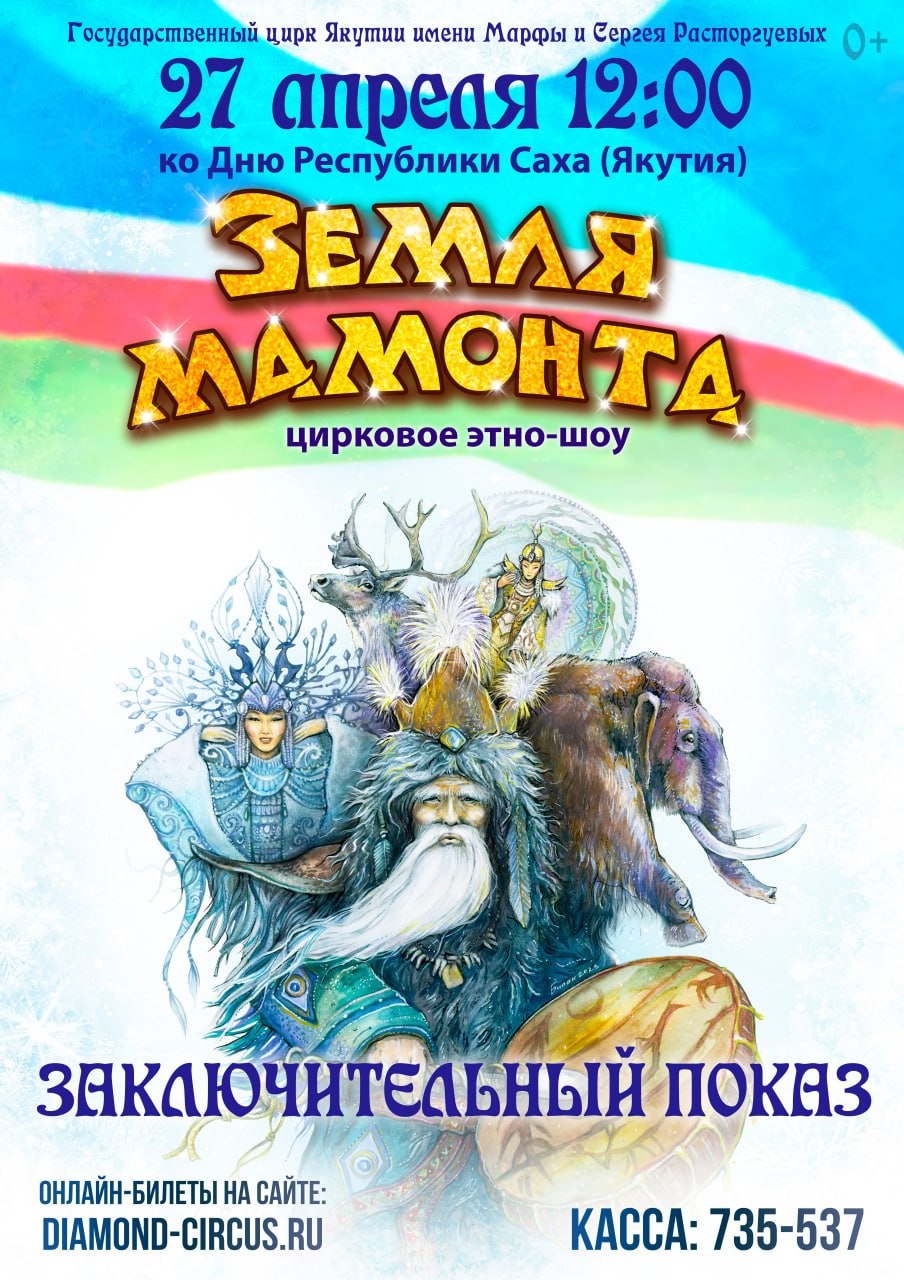
Цирковое этно-шоу «ЗЕМЛЯ МАМОНТА»
этно-шоу
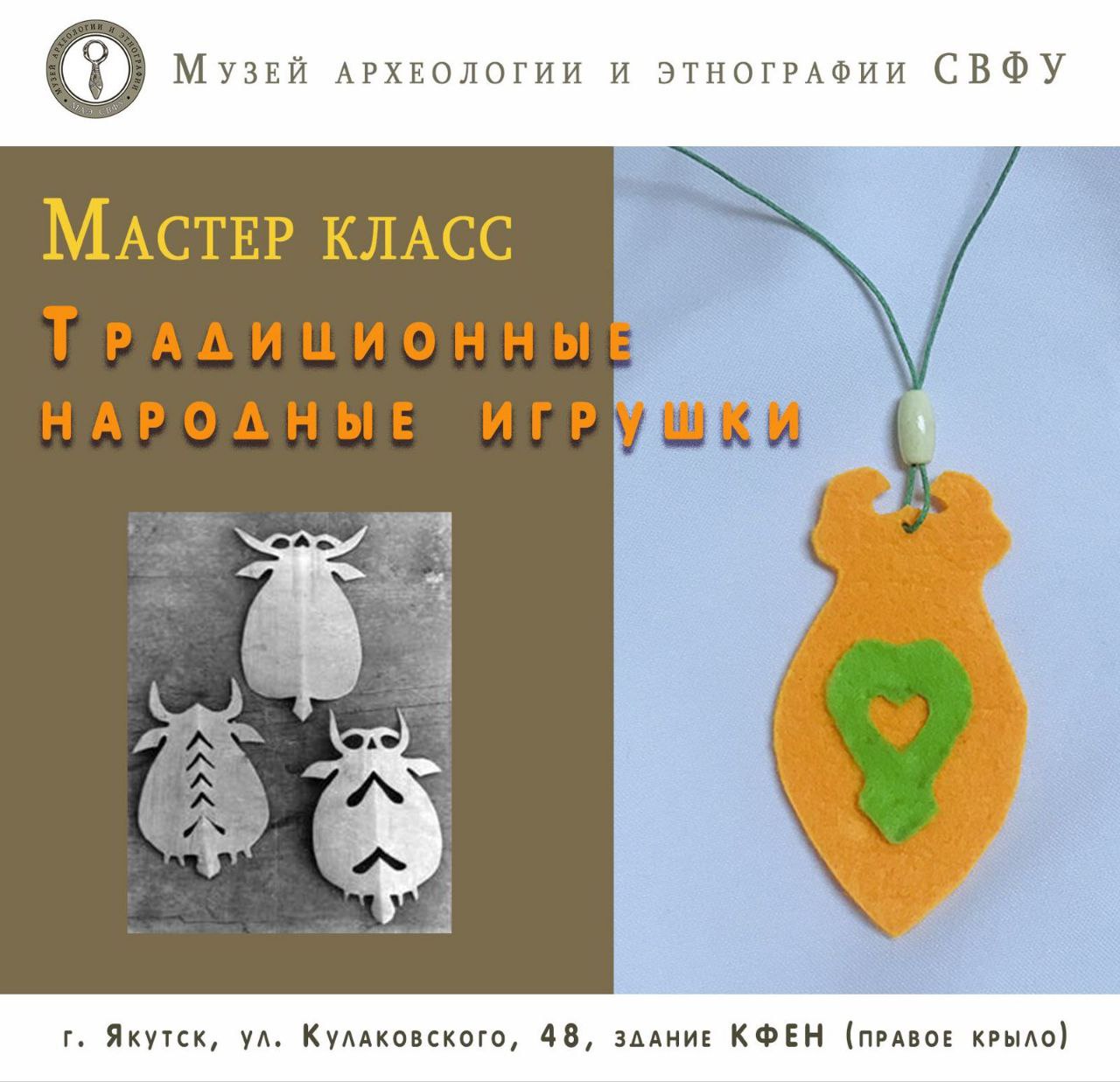
Традиционная народная игрушка
мастер-класс

Курс "Повелитель эмоций"
развитие эмоционального интеллекта р
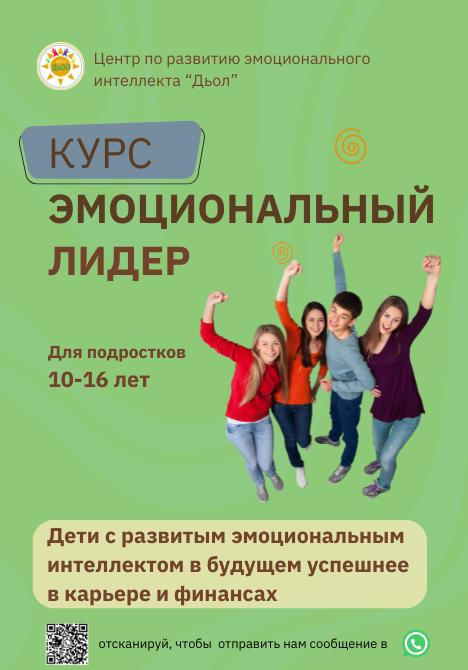
Курс "Эмоциональный лидер"
развитие эмоционального интеллекта
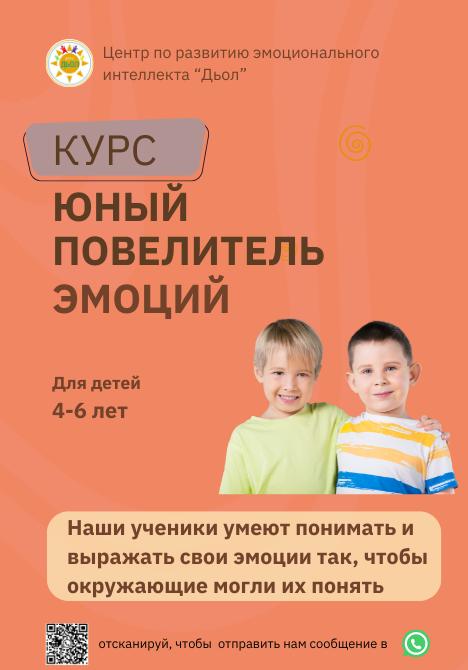
Курс "Юный повелитель эмоций"
развитие эмоционального интеллекта

Гипс+Арт терапия
мастер-класс, 1.5-2ч
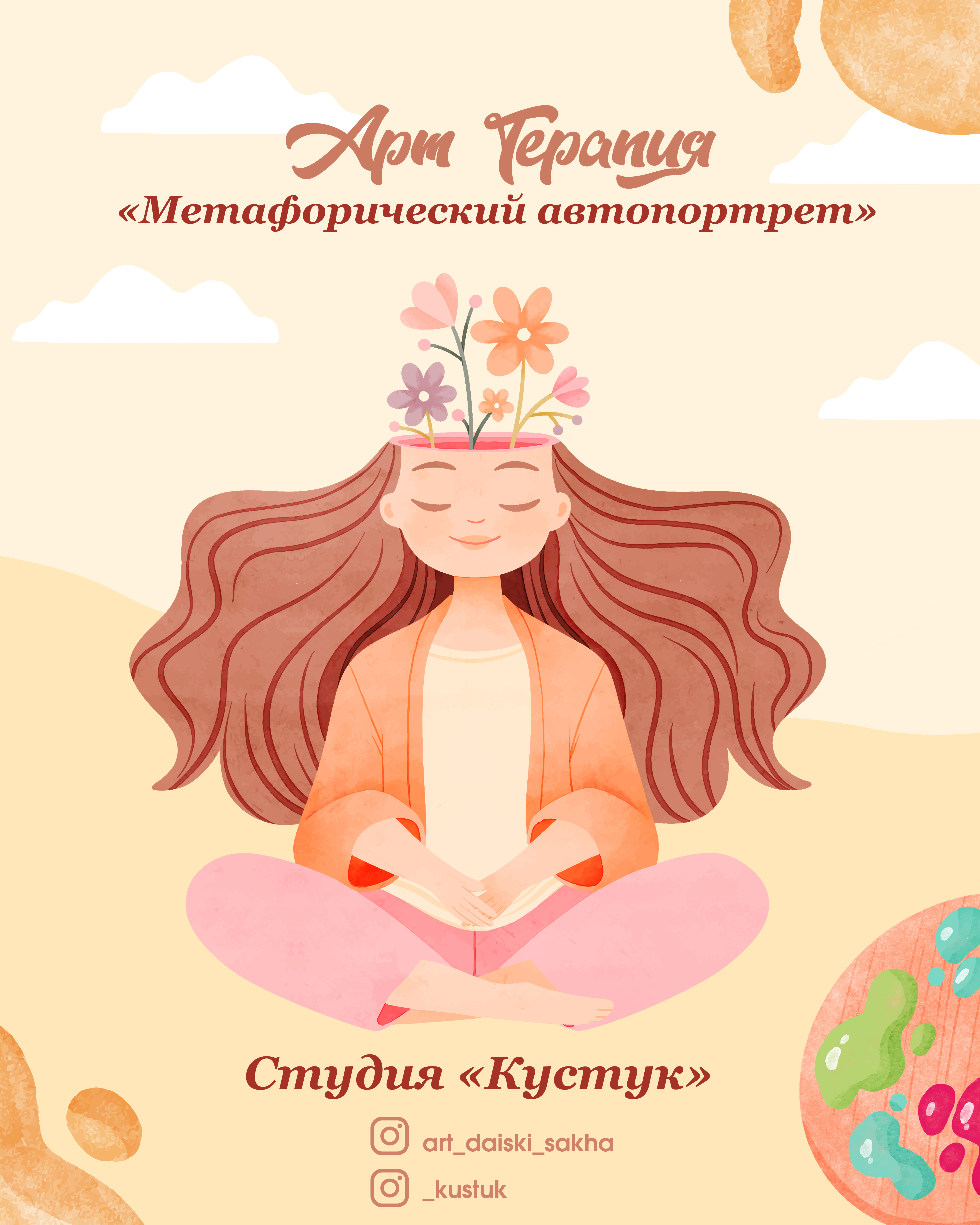
Арт-терапия
мастер-класс

WEBCORE x СЮР
вечеринка

Постоянная экспозиция Галереи зарубежного искусства
искусство Западной Европы и народов Востока

BASSDIAGNOZ | Коба
вечеринка

У Мотокуо | Пара бокалов
французская вечеринка
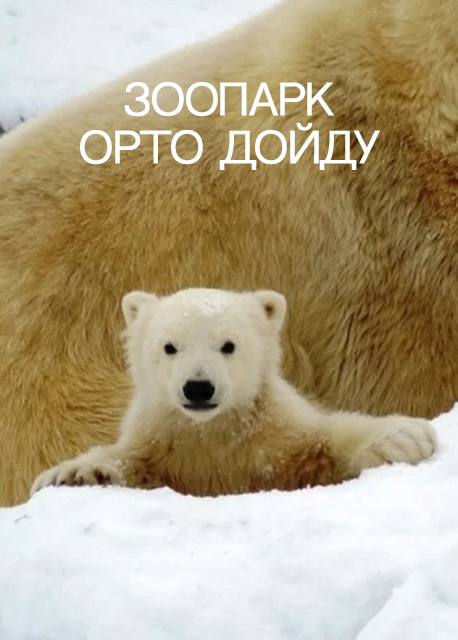
Орто дойду
зоопарк
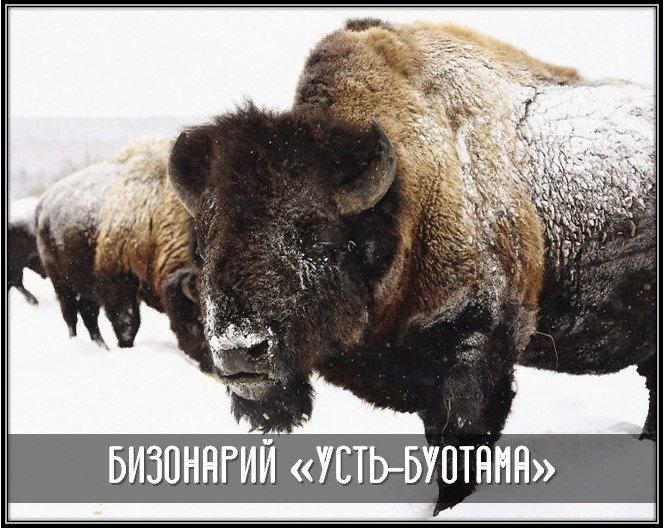
Усть-Буотама
тур в бизонарий
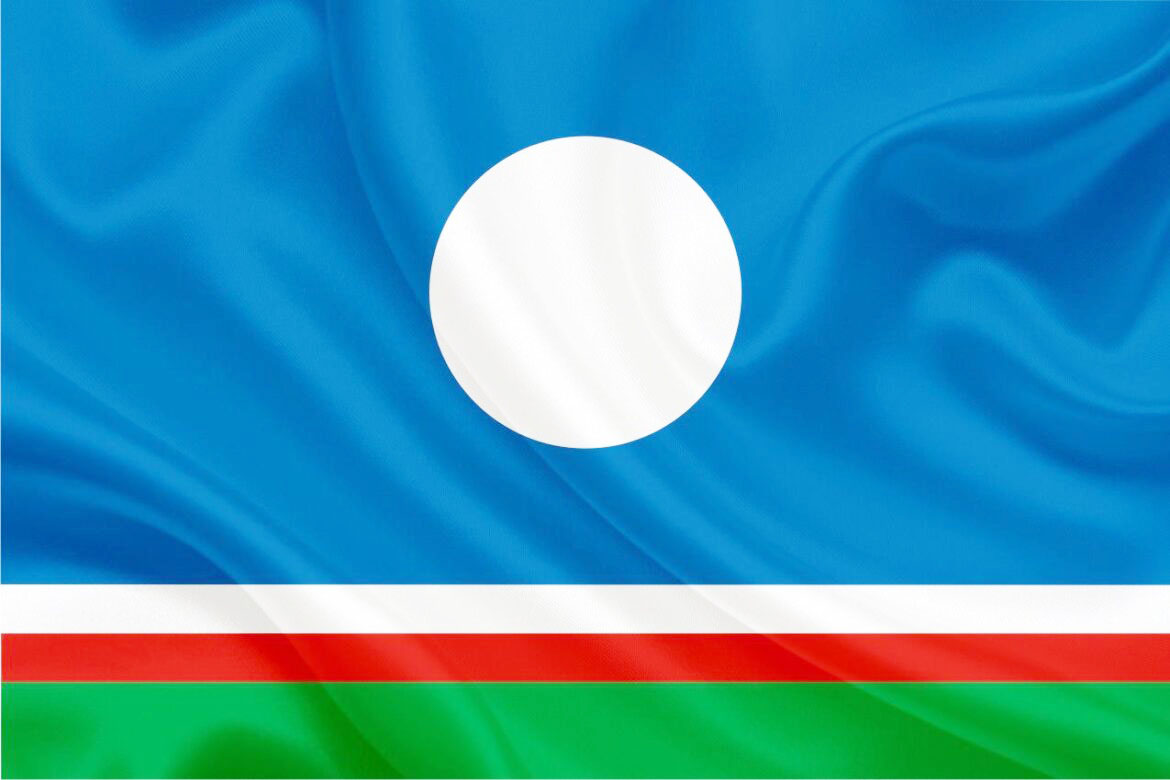
День Республики Саха (Якутия)
программа празднования

Вечер сомелье
дегустация

Тумэр-Активити
тимбилдинг

Рюриковичи 862-1598
мультимедийная выставка

Дух предков
выставка

Музыкальная этнография народов Якутии
постоянная экспозиция

ВОСТОЧНАЯ ШКОЛА СВФУ
курсы китайского и корейского, 2 месяца

МОЯ ЯКУТИЯ
персональная выставка Ирины Мекумяновой
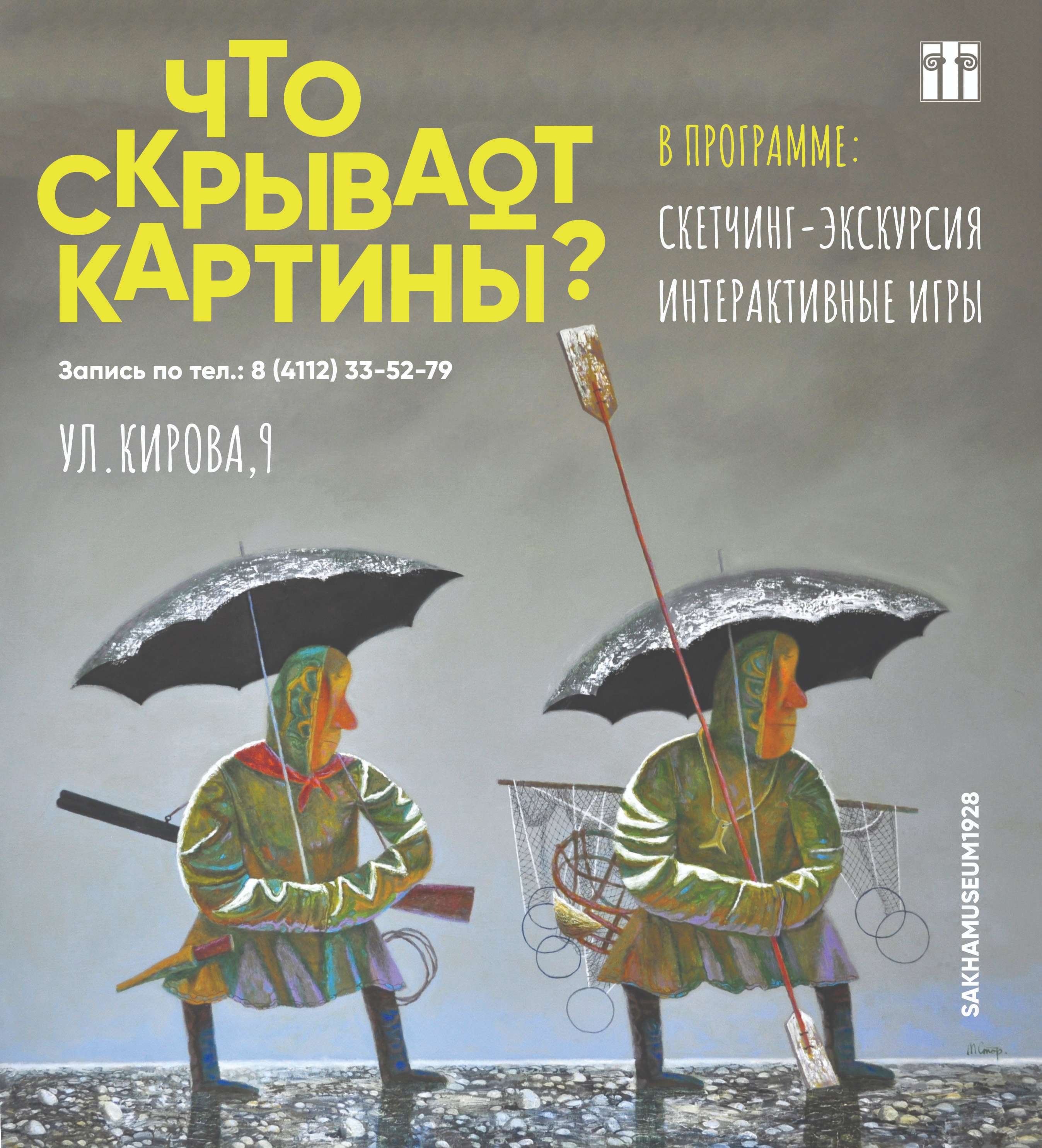
Что скрывают картины?
скетчинг-экскурсия

GARAGE SALE
косметика, книги, аксессуары, одежда и другое
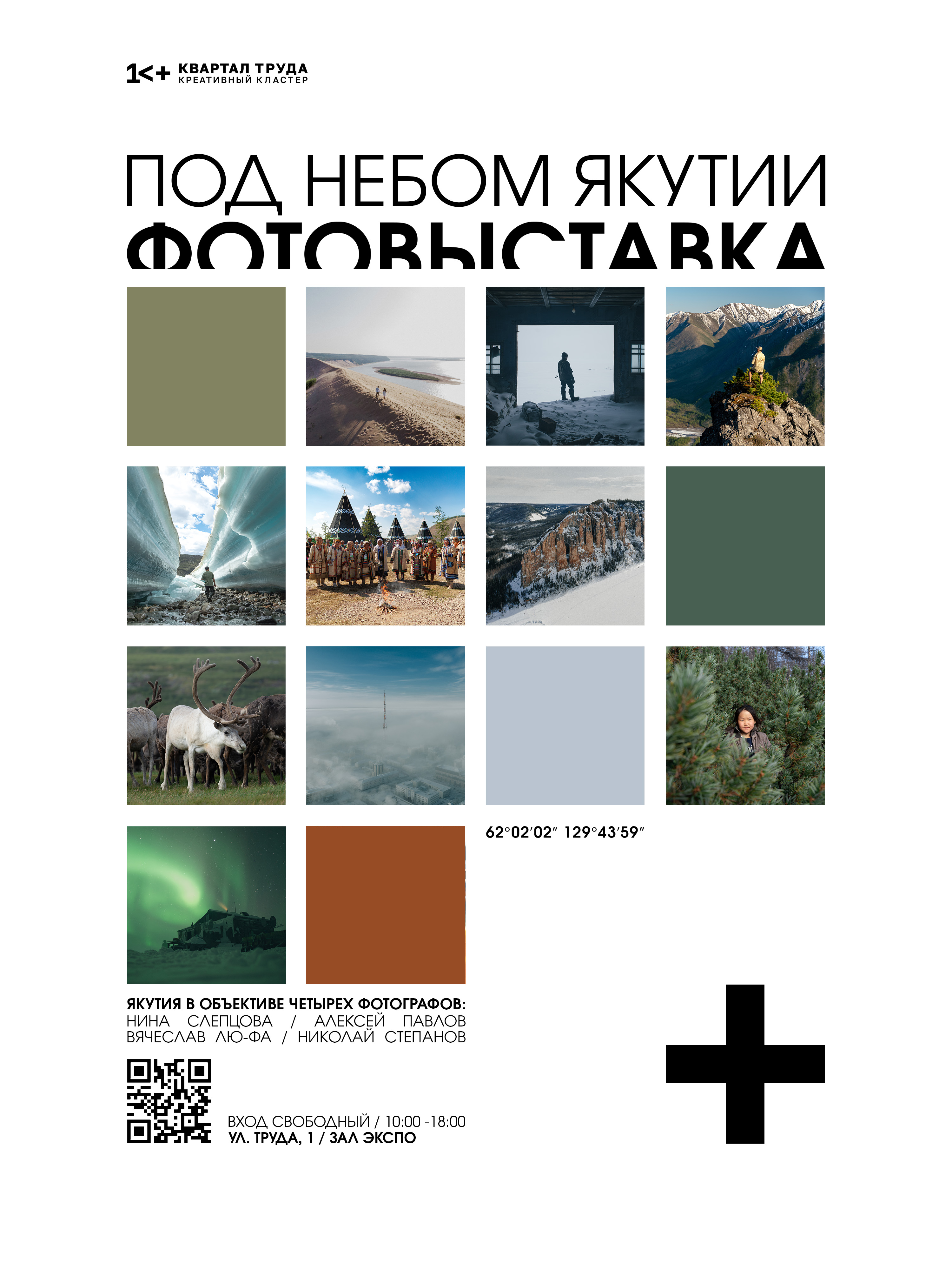
ПОД НЕБОМ ЯКУТИИ
фотовыставка

Киэҥ киэли кистэлэҥэ
выставка
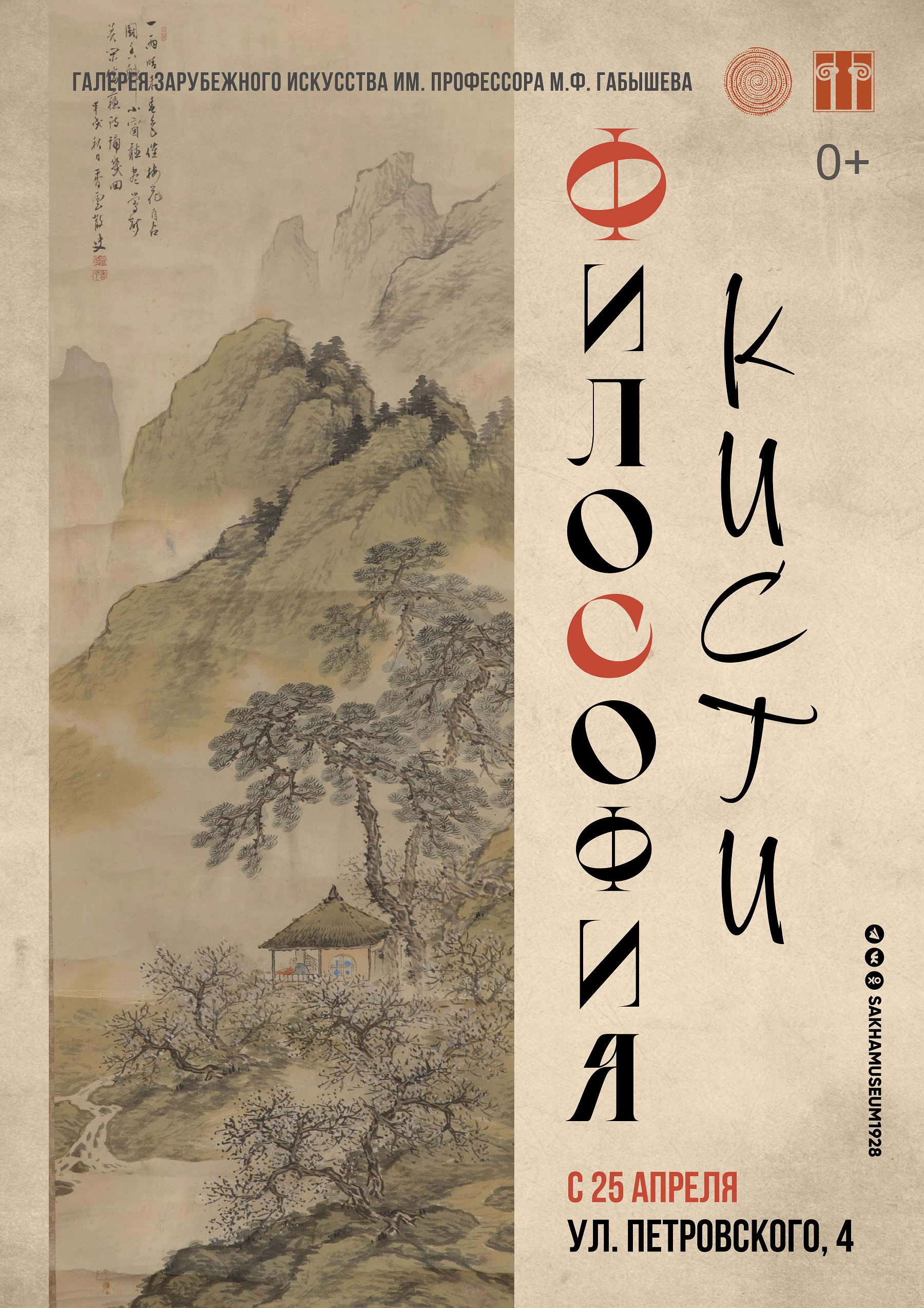
Философия кисти
древняя китайская живопись
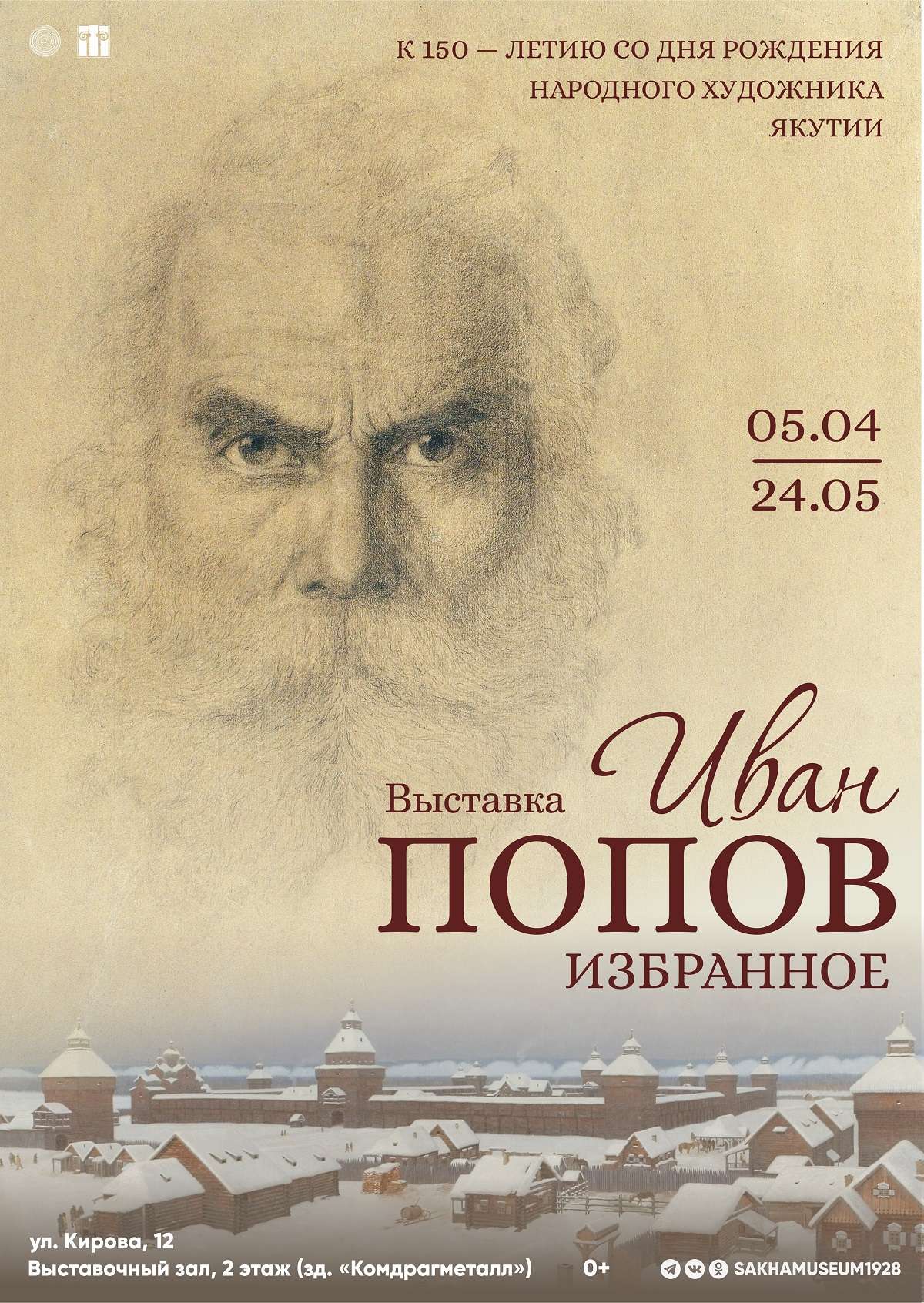
Иван Попов. Избранное
основоположник изобразительного искусства Якутии
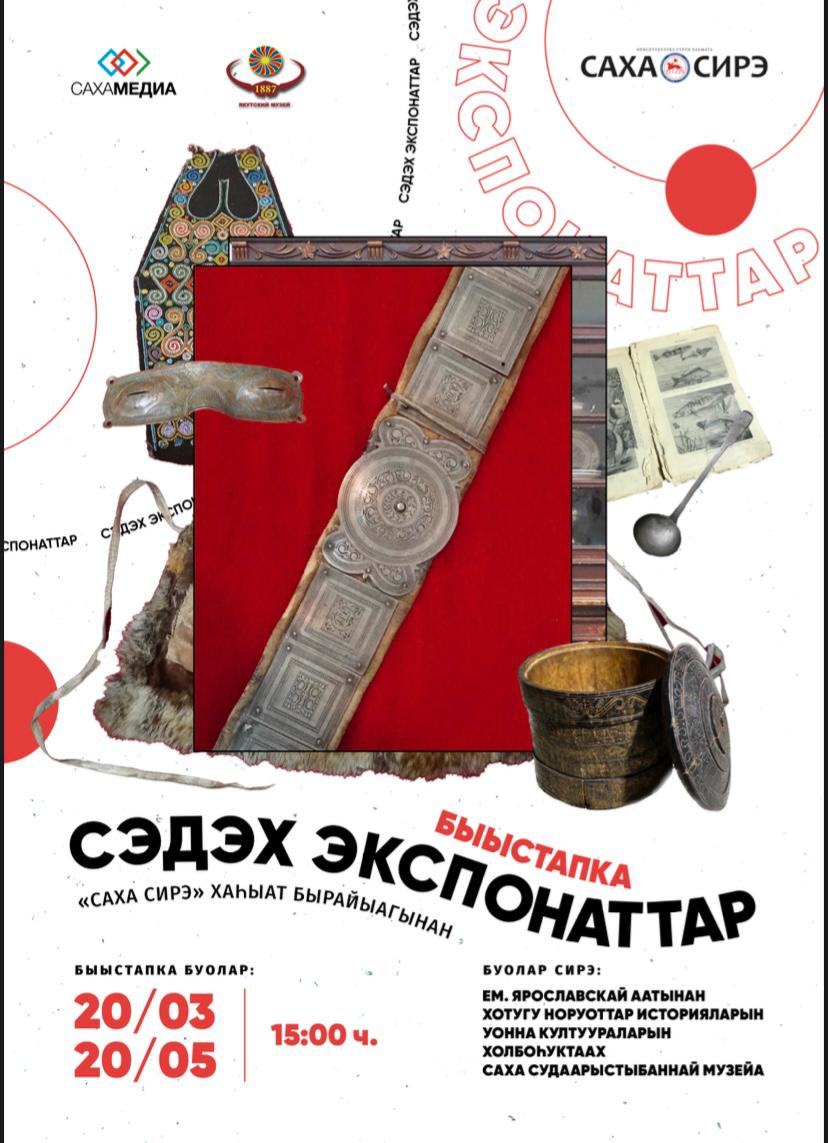
Сэдэх экспонаттар
"Саха Сирэ" хаhыат бырайыагынан

Киэҥ киэли кистэлэҥэ
публичная программа выставки
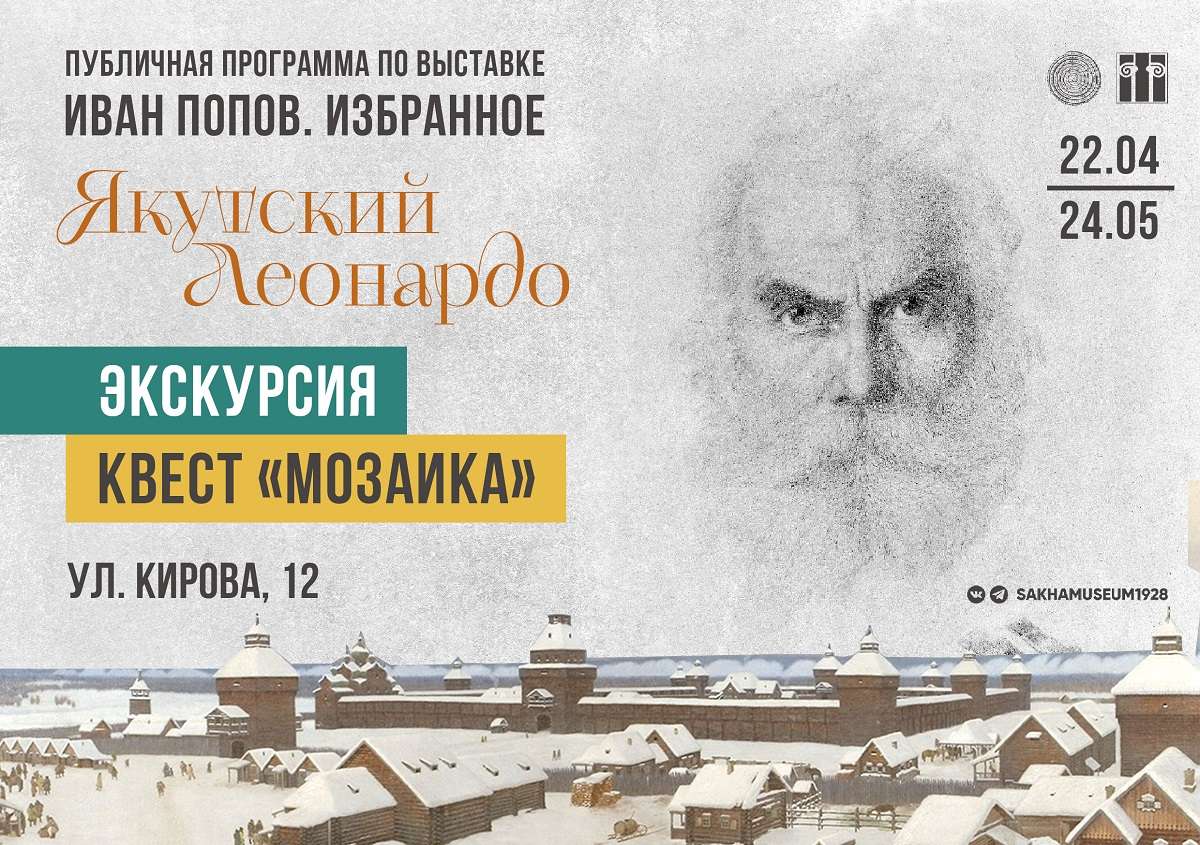
Якутский Леонардо
публичная программа

Боинг-Боинг
комедия, 2ч 30мин.

Доставка еды Тал Пицца
3 вакансии

Додо Пицца
5 вакансий

ООО "ВЕГА-ЯКТ" (франчайзи "Пятёрочка")
13 вакансий

Юридическая компания "Ваш ЮристЪ"
8 вакансий

Ювелирный салон SOKOLOV
1 вакансия

ООО Спортмастер
3 вакансии

Байкальский банк ПАО Сбербанк
15 вакансий

Сеть магазинов «Бристоль»
9 вакансий

Магазин Встреча
1 вакансия

Сеть салонов оптики "Очкидалинзы"
6 вакансий

ООО "ТД Кар-мен"
7 вакансий

УРУУ якутская ювелирная компания
11 вакансий